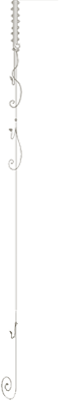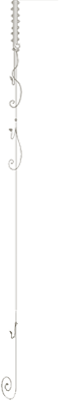|
|
Публикации
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
|
В преддверии Нового года мы воспоминаем рассказ Кирилла Грицына, племянника Даниила Хармса, жившего, как и сам писатель, в квартире № 8 дома № 11 по улице Надеждинской (ныне Маяковского):
«…однажды, помню, мы вместе встречали Новый год. Празднование Рождества с наряженной елкой было тогда запрещено, и мой папа Владимир Иосифович привез елку ночью чуть ли не в гробу. Ее поставили в прихожей, где нет ни одного окна. Туда же принесли стол с угощениями. Так в прихожей и встречали Новый год».
Действительно, запрет на празднование Рождества и Нового года с наряженной елкой действовал до 1935 года.
Сегодняшний экспонат виртуальной выставки тоже появился у Хармса благодаря Владимиру Грицыну — мужу Елизаветы, сестры Хармса, и отцу Кирилла. В 1939 году, после заключения Пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией, Владимир Иосифович, занимавший высокую должность на заводе «Восход», был отправлен в командировку в Германию и привез оттуда два радиоприемника Telefunken. Один остался в комнате Грицыных, а другой стоял в комнате Даниила Хармса и его жены Марины Малич. Мальчишкой Кирилл Грицын нередко видел в комнате Хармса такую картину: Марина Малич лежит на кушетке, слушает радиоприемник и пьет пиво из маленьких бутылочек, которые ставит на полированную крышку. (Круги от этих бутылочек до сих пор хорошо видны на приемнике.) Он также вспоминал, что внутри приемника находилась бумажка с предупреждением о наказании за прослушивание иностранных радиостанций… на немецком языке: в нацистской Германии этого тоже не одобряли.
Многие записи в дневниках Хармса связаны с трансляциями радиопередач: о футбольном матче между турецкой и ленинградской командами, о пении Шаляпина, произведениях И. Брамса и Д.Б. Перголези... Стоит заметить, что до 1962 года все коротковолновые радиоприемники в СССР должны были быть зарегистрированы в органах внутренних дел. Разумеется, Хармс и не подумал бы зарегистрировать подарок Грицына.
20 августа 1941 года оперуполномоченный УНКВД, сержант госбезопасности Бурмистров направил по начальству проект постановления на арест «гражданина Ювачева-Хармс» на основании того, «что Ювачев-Хармс Д.И. к?онтр?р?еволюционно? настроен, распространяет в своем окружении к?онтр?р?еволюционные? клеветнические и пораженческие настроения, пытаясь вызвать у населения панику и недовольство Сов?етским? правительством». Хармса арестовали 23 августа. Согласно протоколу обыска, произведенного в его квартире в этот же день, изъято: «1) Писем в разорванных конвертах 22 шт. 2) Записных книжек с разными записями 5 штук. 3) Религиозных разных книг 4 штуки. 4) Одна книга на иностранном языке. 5) Разная переписка на 3 листах. 6) Одна фотокарточка». Расписался в протоколе дворник Ибрагим Кильдеев (дворник Ибрагим присутствует в рассказе Хармса «Праздник»: «“А праздник такой, что наш любимый поэт сочинил новую поэму”,— сказал Ибрагим»).
К немалому своему изумлению, мы обнаруживаем, что в описи нет предмета, столь же опасного для владельца в августе 1941 года, как и новогодняя елка 31 декабря 1933 года. Немецкого коротковолнового радиоприемника Telefunken. 25 июня 1941 года вышло постановление Совнаркома СССР «О сдаче населением радиоприемных и радиопередающих устройств». За неисполнение этого постановления вводилась уголовная ответственность.
«Все боялись тогда новых знакомств и старались избавиться от прежних, даже самых старинных. Заметно выходил из употребления такой предмет, как записная книжка с адресами и телефонами, знали, что при обыске ею заинтересуются больше всего», — пишет Всеволод Петров, искусствовед, друг Хармса, в семье которого сохранилась легендарная трубка поэта. Но Хармс не прятал не только записные книжки (как видите, они указаны в протоколе обыска), но и приемник стоял у него на видном месте. В августе 1941 года ленинградские чекисты настолько спешили, что даже не обратили внимания на немецкий коротковолновый радиоприемник. В мирное время они проводили многочасовые обыски с переворачиванием всей квартиры вверх дном. Когда враг был у ворот, они быстро пошарили по полкам и закончили обыск. Возможно, протокол обыска они писали на радиоприемнике, прикрытом скатеркой, приняв его за обыкновенный столик. Удивительно, что этот Telefunken уцелел и во время блокады.
При подготовке публикации использованы материалы из книг:
? Даниил Хармс глазами современников. Воспоминания. Дневники. Письма / Под редакцией А.Л. Дмитренко и В.Н. Сажина. — СПб.: Вита Нова, 2019. 528 с.: 400 илл. + XXXII с.: 56 илл.
? В. Шубинский. Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру. — СПб.: Вита Нова, 2008. 560 с.: 215 илл. + цв. вклейка. XLVIII c.
? Каталог выставки «Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение» в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского. — СПб.: Вита Нова, 2013.
|
|
Список представило издательство «Вита Нова». В него вошли всемирно известные книги, на которые предлагается взглянуть по-новому: так, как видят их художники-иллюстраторы.
«История любовная»
Автор: Иван Шмелев
Иллюстратор: Александр Петров
Одно из самых лиричных произведений Ивана Шмелева — история первой любви — детской, наивной. И решительной, и глупой. История романтическая и поэтическая — об ответственности человека перед любимым и перед самой любовью. Развязка этой драмы оказывается неожиданной.
Иллюстрации к изданию взяты из анимационного фильма «Моя любовь», который срежиссировал и нарисовал Александр Петров — обладатель анимационного «Оскара».
«Ветер в ивах»
Автор: Кеннет Грэм
Иллюстратор: Ксения Алексеева
«Ветер в ивах» — одна из книг, которую с равным удовольствием читают дети и взрослые. Главных героев в ней несколько: крот Мол — романтик и мечтатель, его друг Рэт, принадлежащий к семейству водяных крыс, — реалист, Тод из знаменитого рода жаб — фантазер и хвастун. Есть и другие важные герои: Река, на берегу которой происходит действие повести, Дремучий Лес, обширные луга вокруг — все они живые и одухотворенные.
Нынешнее издание проиллюстрировала молодая художница Ксения Алексеева. Ей удалось передать лиризм, мягкий юмор и уют, которые присущи английским сказкам.
«Большая проза»
Автор: Осип Мандельштам
Иллюстратор: Артур Молев
В сборник вошли произведения: «Шум времени», «Феодосия», «Египетская марка», «Четвертая проза» и «Путешествие в Армению». Один из пяти текстов — «Четвертая проза» — стал своего рода символом веры советской неподцензурной словесности. Сборник опубликован в серии «Рукописи», которая посвящена текстам, распространявшимся в сам- и тамиздате, подвергавшимся цензуре.
Книга проиллюстрирована петербургским художником Артуром Молевым. Несколько лет он тесно сотрудничал с популярной рок-группой «АукцЫон». Комментарии к сборнику подготовили Павел Нерлер — директор Мандельштамовского центра «Высшей школы экономики» и Сергей Василенко — создатель музейной экспозиции «Осип Мандельштам».
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»
Автор: Сельма Лагерлеф
Иллюстратор: Борис Диодоров
Книга издана в свободном пересказе 3ои Задунайской и Александры Любарской. Именно она, впервые изданная в 1940 году, стала хрестоматийным детским чтением. Сказка открывает большой простор для фантазии художника: ее поэтичные пейзажи, фантастические герои, запоминающиеся образы — чего стоит Бронзовый Карл, который гонится за маленьким Нильсом.
В издании более 100 иллюстраций Бориса Диодорова. Это знаменитый цикл работ, отмеченный множеством важнейших мировых наград, включая «Золотое яблоко» Международной биеннале иллюстрации в Братиславе.
«Книги джунглей»
Автор: Редьярд Киплинг
Иллюстратор: Поль Жув
Маугли, Багира, Шер-Хан — эти имена так же хорошо известны детям, как Айболит или Мойдодыр, пусть немногим известно, что «Книги джунглей» состоят не только из историй про Маугли. В автобиографии Киплинг писал, что рассказы о Маугли принято считать произведением для детей, хотя на самом деле, они предназначены для взрослого чтения. «Книги джунглей» — это особый мир, где каждый может сказать другому: «Мы с тобой одной крови».
Работа над иллюстрациями к книге затянулась на несколько лет из-за множества разных причин, одной из которых стала Первая мировая война. Наконец в 1918 году «Книга джунглей» с иллюстрациями французского художника Поля Жува была напечатана. Это редкое библиофильское издание признали одной из вершин искусства книги XX века. Через сто с лишним лет издательство «Вита Нова» переиздало иллюстрации из этой книги.
«Маскарад»
Автор: Михаил Лермонтов
Иллюстратор: Александр Головин
«Маскарад» — это драма в стихах, состоящая из четырех актов. Действие разворачивается в Петербурге 1830-х годов, а главным героем пьесы является Евгений Арбенин — дворянин с бунтовским характером. Ему кажется, что если он стал мастером карточной игры, то и в игре в жизнь обретет успех. Однако тут он терпит поражение.
В центре издания — эскизы и рисунки Александра Головина к спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года. Эту постановку называют самой дорогой в истории российского театра: четыре тысячи эскизов: завесы, кулисы, мебель, зеркала, чернильницы, бумажники, игральные карты, костюмы — была продумана каждая деталь.
«Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
Автор: Льюис Кэрролл
Иллюстратор: Юрий Ващенко
Сказки о приключениях девочки в воображаемом мире — одни из любимых у детей. Считается, что они совершили переворот в мире фантастики. Произведение славится своими философскими шутками и игрой слов. Чеширский Кот, Белый Кролик, Мартовский Заяц, Шляпник и другие персонажи стали культовыми, а сцены из сказки, такие как «Безумное чаепитие» — предметом споров и многочисленных разгадок загадки, которую Льюис Кэрролл и не принимал всерьез.
В мире свыше четырех тысяч иллюстраторов «Алисы», в их ряду — и современные российские художники Геннадий Калиновский и Юрий Ващенко, чьи работы представлены в издании. Иллюстрации Юрия Ващенко признаны в Британии одними из лучших иллюстраций к книгам об Алисе.
«Похождения бравого солдата Швейка»
Автор: Ярослав Гашек
Иллюстратор: Йозеф Лада
Эту книгу можно называть поистине народной: имя главного героя читатели знают лучше, чем имя писателя. Дети знают Дон Кихота, Гулливера, Робинзона Крузо и Пятницу, но далеко не всегда могут назвать авторов этих книг. Такая же судьба постигла и солдата Швейка — персонажа чешского писателя Ярослава Гашека. Образ Швейка — бравого солдата — равно простодушного и хитрого, нелепого и мудрого, завоевал сердца читателей.
«Я нарисовал Швейка, раскуривающего трубочку под летящими пулями и гранатами и рвущейся шрапнелью. Добродушное лицо, спокойное выражение, по которому понятно, что он себе на уме, но в случае необходимости может прикинуться дурачком», — писал иллюстратор Йозеф Лада об одной из картинок к книге Гашека.
«Евангелие от Луки»
Иллюстратор: Г. А. В. Траугот
Книга вышла в свет в серии «Священные тексты», в которую входят книги Ветхого и Нового завета. Можно сказать, что это — Библия в 30 томах, каждый из которых прокомментирован современными учеными. Как и все книги из этой серии, «Евангелие от Луки» — это светское издание. В него вошли и историко-литературные примечания, и статья о географическом и политическом положении Палестины во времена Иисуса Христа.
Г. А. В. Траугот — общая подпись, под которой публикуется книжная графика трех художников: Георгия Траугота и его сыновей Александра и Валерия. Даже после ухода из жизни Георгия и Валерия Александр Траугот продолжает ставить под своими работами тройные инициалы. В книгу вошли новые иллюстрации классика книжной графики Александра Траугота.
Японские народные сказки
Иллюстратор: Г. А. В. Траугот
Принято считать, что в сказках разных народов есть что-то общее. Что даже при несхожести сказочных персонажей сюжетные ходы и описанные ситуации напоминают друг друга. Но кажется, японские сказки — особенные и, зачастую, больше похожие на фантастику. В издание вошло тридцать японских сказок, словарик и комментарии к текстам, составленные переводчицей Верой Николаевной Марковой.
Книгу иллюстрирует ироничная и нежная книжная графика Александра и Валерия Трауготов. Трауготы сделали иллюстрации к японским народным сказкам еще в 1990-х годах, но книга тогда так и не вышла. Впервые они были опубликованы только в 2015 году.
|
|
С 1927 года детский отдел Госиздата (ГИЗа; в процессе последующих реорганизаций — Детиздат, Детгиз) стал своеобразной творческой мастерской и клубом для Даниила Хармса и его друзей. Помещался он на пятом этаже Дома книги на проспекте 25 Октября (Невском), дом 28.
С 1929 года Детгиз подвергался разносной критике в печати, а затем и репрессиям. Косвенным образом направленным против Детгиза оказалось дело, по которому в декабре 1931 года были, среди прочих, арестованы и затем отправлены в ссылку Хармс и Введенский. В ноябре 1937 года цензор Д.И. Чевычелов сообщал в докладной записке: «Хорошо сработавшаяся, обладавшая длительным опытом маскировки, контрреволюционная группа Маршака уже длительное время вела в Лендетиздате глубокую вредительскую работу. Сейчас эта группа частично арестована органами НКВД, частично изгнана из издательства. <…> Писатели Хармс и Введенский в прошлом участвовали в подпольной организации, построенной на платформе восстановления монархии».
19 марта 1938 года был арестован Заболоцкий. Осенью 1938 года, когда уже значительная часть сотрудников Детгиза была репрессирована, Маршак, надеясь избежать ареста, переехал в Москву. Хармс, Введенский и Липавский до 1941 года продолжали сотрудничество с Детгизом.
Сегодня мы представляем записи песен, которые собирали и исполняли Даниил Хармс, Самуил Маршак и другие сотрудники детского отдела Госиздата в 1930-е годы: кассету «Песни в кругу обэриутов». В декабре 1984 года литературовед Анатолий Александров записал на магнитофон 28 песен в исполнении детской писательницы и переводчицы Эстер Соломоновны Паперной (1901–1987). Она была редактором детского отдела Госиздата, до 1940 года заведовала редакцией журнала «Чиж». В своих мемуарах она писала, что увлечение музыкой и песенной культурой было чуть ли не массовым в их редакции: «Со мной и с Даниилом Ивановичем Хармсом у Самуила Яковлевича [Маршака] был постоянный своеобразный “товарообмен ”: мы учили друг у друга понравившиеся песни». Искусствовед В.Н. Петров вспоминает о музицировании в комнате Хармса: «Почти всякий вечер помногу музицировали. Я.С. Друскин играл на фисгармонии Баха и Моцарта. Часто приходила редакторша Детгиза Э.С. Паперная, знавшая несколько тысяч песен на всех языках мира. Даниил Иванович обладал очень приятным низким голосом и охотно пел, иногда вместе с Паперной, иногда и без нее».
Хармс переписывался с Паперной; упоминания об этом и о посещении Паперной имеются в записных книжках Хармса.
В коллекции издательства «Вита Нова» хранятся кассета с 47-минутной записью и сопроводительный список «Песни в кругу обэриутов», составленный Александровым. Среди прочих — песни шведского поэта и музыканта К.М. Бельмана, русские, английские, шотландские, хасидские песни; к некоторым песням слова подобраны Хармсом.
Вызывает восхищение тот факт, что Эстер Паперная знала наизусть такое количество песен, храня их в памяти больше сорока лет — семнадцать из них она провела в лагере и ссылке.
«Даниила Ивановича Хармса я знала ещё со времён “Ежа”, — вспоминала Эстер Сломоновна, — но особенно часто мне посчастливилось общаться с ним с 1937 по 1940 год, когда я работала в редакции “Чижа”. Во-первых, мы часто виделись по работе, а во-вторых, у нас с ним нашлась общая платформа — увлечение музыкой и песней. И в редакции мы часто музицировали, уча друг у друга песни с голоса, и дома у них я бывала тоже, чтобы петь под аккомпанемент Даниила Ивановича на фисгармонии. <…>
Слово он чувствовал как настоящий поэт, и малейшая неточность, малейшая тяжеловесность коробила его до физической дрожи. В замечательной песне Гайдна Yn stiller Wehmut, которую он выучил от меня, немецкий текст гораздо слабее музыки, но в немецком звучании это как-то не задевало уха. Когда же кто-то попросил перевести и петь по-русски, чтобы все могли понять песню, Хармс даже зажмурился, пробуя перевести: очень уж фальшиво звучало банальное содержание песни при такой благородной и возвышенной музыке. И Даниил Иванович заявил, что кроме математической формулы, под эту музыку по-русски ничего спеть нельзя. Я попробовала уложить в размер “Квадрат суммы двух чисел” — укладывалось. И тогда Даниил Иванович стал петь эту формулу на мелодию Гайдна, когда среди слушателей были люди, не знающие немецкого языка. <…>
Вот Самуил Яковлевич <Маршак> несется по коридору издательства, торопится в свой кабинет, озабоченный и чем-то расстроенный.
— Самуил Яковлевич, можно вас на минуточку? — останавливает его детский писатель Хармс.
— Не могу, не могу, дорогой Даниил Иванович. Очень некогда. А что у вас такое?
— Понимаете, Самуил Яковлевич, я вдруг забыл мелодию поморской песни, которую вы мне напели, — говорит Хармс, — как она начинается?
В таком деле отказать нельзя! И занятый по горло Маршак тут же на ходу тихонько напевает своим низким сипловатым голосом:
Уж ты гой еси, море синее,
Море синее, все студеное,
Все студеное, да все солоное.
Кормишь-поишь ты нас, море синее,
Одевашь-обувашь, море синее,
Погребашь ты нас, море синее,
Море синее, все студеное,
Все студеное да все солоное...
Суровая своеобразная мелодия этой старинной поморской песни, ее ритм, передающий движения гребцов, постепенно захватывают и Маршака и Хармса».
1. «Уж ты гой еси, ты море синее…». Поморская песня, 01:33
2. «Андалузская ночь». Старинный романс, перешедший из гостиной в лакейскую, 2:17
3. «Алгебраический Гайдн». Слова подобраны Д. Хармсом, муз. Й. Гайдна, 00:48
4. «Менуэт». Муз. и слова К.М. Бельмана (пер. А. Глобы), 02:19
5. «В деревне живали, метелки вязали…», 01:02
6. «Желанья наши совершились…». Муз. Г. Теплова, слова Е. Орловой, 01:50
7. Хасидские песни: «Оплакивание ребе-чудодея», 00:50; «Бам-бам-бам» (песня без слов), 00:34; «Заздравная», 00:31
Общее время звучания — 44:32
Запись Анатолия Александрова 1 декабря 1984 года
Реставрация, мастеринг Александра Деревягина
При подготовке публикации использованы материалы из книг:
? Даниил Хармс глазами современников: Воспоминания. Дневники. Письма / Под редакцией А.Л. Дмитренко и В.Н. Сажина. — СПб., 2019
? Я думал, чувствовал, я жил: Воспоминания о Маршаке. М., 1971 (2-е изд.: 1988)
? Глоцер В. Вот какой Хармс!: Взгляд современников. М., 2012
? Каталог выставки «Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение» в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского — СПб., 2013
|
|
Крупнейшая в мире частная коллекция мемориальных предметов, связанных с Даниилом Хармсом, принадлежащая издательству «Вита Нова», включает в себя рукописи Хармса и писателей его круга, личные вещи участников содружества «чинарей», издания произведений этих писателей и исследований о них, книги с автографами и маргиналиями Хармса, оригиналы иллюстраций, собрание журналов «Чиж» и «Ёж». Надеемся, что в будущем коллекция станет основой музея Даниила Хармса, которого до сих пор нет в Петербурге. Сегодня мы приступаем к открытию виртуальной выставки наиболее значимых экспонатов будущего музея, с каждым из которых связана фантастическая и в то же время типичная история времён Хармса.
23 августа 1941 года Даниил Хармс был арестован. В этот день вокруг Ленинграда сомкнулось очередное звено блокадного кольца: части финской армии подошли к Выборгу. Обком и горком издали постановление «О дальнейшем укреплении революционного порядка в Ленинграде и пригородах». Из сдержанных и трогательных воспоминаний Леонида Пантелеева, опубликованных в мае 1965 года, вошла в обиход пересказанная им легенда об обстоятельствах ареста Хармса: его взяли «полуодетого, в одних тапочках на босу ногу». Эта легенда была опровергнута выявленными впоследствии документами, в частности, воспоминаниями жены Хармса Марины Малич:
«Это была суббота. Часов в десять или одиннадцать утра раздался звонок в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное. И Даня сказал мне:
— Я знаю, что это за мной...
<…>
Мы были в этой нашей комнатушке как в тюрьме, ничего не могли сделать. Я пошла открывать дверь. На лестнице стояли три маленьких странных типа. Они искали его. Я сказала, кажется:
— Он пошел за хлебом.
Они сказали:
— Хорошо. Мы его подождем.
Я вернулась в комнату, говорю:
— Я не знаю, что делать...
Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль. И у нас не было сомнений, что это за ним. Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его. И стали уводить».
Вскоре после ареста писателя, 11 сентября 1941 года, в дом № 9 (соседний с хармсовским домом № 11 по улице Надеждинской, ныне Маяковского) попала бомба. Взрывная волна повредила и квартиру Хармса. Марина Малич вынуждена была переселиться в «писательскую надстройку» на канале Грибоедова, д. 9. Так рукописи Хармса оказались безнадзорными. Возможно потому, что дом обезлюдел, они не были сожжены в первую блокадную зиму.
В конце 1941 года единственный оставшийся в живых из «чинарей», близкий друг Хармса Яков Друскин, несмотря на дистрофию, дошел пешком с Гатчинской улицы до Надеждинской, вместе с Мариной Малич собрал рукописи Хармса и Введенского и положил бумаги в чемоданчик Хармса.
В июле 1942 года Друскин эвакуировался в село Чаша Челябинской области. Он взял с собой чемоданчик с архивом Хармса, положив в него и другие подаренные друзьями рукописи: автографы произведений Александра Введенского и авторские машинописи стихотворений Николая Олейникова.
Во второй половине 1950-х годов Друскин начал разбирать сохраненный им в эвакуации архив Хармса (с середины 1960-х годов этими рукописями занимались и друзья Друскина, филологи Михаил Мейлах и Анатолий Александров), а после передал хранившиеся у него архивы в Публичную библиотеку. С тех пор ненапечатанные тексты Хармса, Олейникова, Введенского и Липавского начали публиковать и изучать.
Легендарный чемоданчик Хармса, чудом сохранившийся до наших дней, можно считать «точкой большого взрыва», образовавшего Вселенную под названием «Даниил Хармс». Ведь при жизни писателя было опубликовано только два стихотворения «для взрослых», а всё остальное мы могли бы никогда не узнать, если бы не самоотверженный поступок Якова Друскина.
Чемодан небольшой — 40,5×26×11,5 см, однако, как оказалось, довольно вместительный. После смерти Друскина он оказался в распоряжении Л. Г. Ковнацкой, душеприказцицы его сестры. Предполагалась реставрация, поэтому чемоданчик ошкурили.
Удалось определить время изготовления чемодана с точностью до полугода: рядом с ручкой имеется едва заметное тиснение: «SOMDARIS Riga» (Произведен в Риге на кожно-галантерейной фабрике «SOMDARIS». Основана она была в 1940 году и в первые месяцы называлась фабрикой А. Розенталя, а в период 20.11.1940–06.1941 — «SOMDARIS». Затем она была закрыта, и производство возобновилось только в 1944 году. Комбинат с таким названием существовал в течение всего советского и значительную часть постсоветского времени.)
В коллекцию издательства «Вита Нова» чемоданчик попал в конце 2011 года. Он стал «точкой кристаллизации» будущего собрания: приобретение этого предмета побудило издательство к формированию коллекции будущего музея Даниила Хармса.
В 2015 году этот чемодан и рукописи Хармса из коллекции «Вита Новы» были использованы на съемках художественного фильма «Хармс» (режиссер Иван Болотников, в главной роли Войтек Урбаньски).
При подготовке публикации использованы материалы из книг: Даниил Хармс глазами современников: Воспоминания. Дневники. Письма / Под редакцией А. Л. Дмитренко и В. Н. Сажина. — СПб.: Вита Нова, 2019. — 528 с.: 400 ил. + XXXII с.: 56 ил.,
Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру. — СПб.: Вита Нова, 2008. — 560 с.: 215 ил. + Цв. вклейка. XLVIII c.,
а также каталога выставки «Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение» в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского — СПб.: Вита Нова, 2013.
|
|
«У нас, незаконнорожденных детей моста Лейтенанта Шмидта, имелся даже свой собственный гимн, переведенный с немецких школьных виршей XVIII века: Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак. А вдруг он не треугольный? Значит, он не мой колпак! Хороший «супрематизм». Исполнялся гимн преимущественно глухонемым способом – жестами».
Цитата – из новой книги выдающегося отечественного сценографа, главного художника БДТ на протяжении почти полувека (интересно, зафиксирован ли этот рекорд официально?) Эдуарда Кочергина, которая недавно вышла в свет.
Остроумное название – «Дети моста Лейтенанта Шмидта» – отсылает к месту действия, знаменитой Средней художественной школе (СХШ), долгое время располагавшейся на третьем этаже Академии художеств на Университетской набережной. Первые рассказы, посвященные пребыванию Эдуарда Кочергина в alma mater, были напечатаны почти двадцать лет назад в его сборнике «Ангелова кукла». Позже новеллы и очерки, посвященные СХШ, публиковались и в периодике, и в книге «Россия, кто здесь крайний?». Девять рассказов написаны в последние годы специально для настоящего издания, и, сколько можно понять из авторского предисловия, возвращаться к теме своей учебы в СХШ Эдуард Степанович более не планирует. Тема закрыта. Во всяком случае на ближайшие годы.
Нельзя сказать, что эти тексты, собранные воедино, превращаются в роман, как было, допустим, с повествованием «Крещенные крестами», но, безусловно, сборник представляет собою цельное высказывание крупного художника о себе, своей жизни, об эпохе, когда соседние произведения дополняют друг друга и вступают в некую перекличку.
Книга похожа на предыдущие произведения Кочергина: яркие, прописанные характеры даже совершенно незначительных персонажей, множество значимых деталей, сказовая манера изложения с обилием жаргонных и просторечных словечек, неологизмов, которые Кочергин изобретает с детской легкостью и непосредственностью. Эдуард Степанович из тех авторов, кто верен выбранной манере и не склонен каждый раз переизобретать себя. Но есть тут и то, что проявляется ярче, чем в других его вещах.
Эдуард Кочергин, сын врагов народа, едва не сгинувший в сороковые, малолетний преступник, виртуоз воровского дела, воспитанник бериевских спецприемников, ведет себя в школе (как и практически все его товарищи-соученики) – шпана шпаной. «Очерки бурсы», говорит автор, – это «розовый дым» по сравнению с тем, что творили «сэхашники». Но тут дело не только и не столько в избытке энергии и природной склонности к нарушению конвенций.
«Главная идея, объединявшая нас, школяров-художников, – идея творчества, – вспоминает автор спустя 70 лет, – а посему считалось, что творить мы можем не только на предметах «изобразиловки», но и на всех других уроках, творить ежедневно, ежечасно, ежеминутно, творить везде и всегда, в различных проявлениях и подчинять этому все окружающее».
Но все каверзы и шутки юных художников, порой жестокие, заканчиваются, когда речь идет об освоении профессии. Художественное дело – это уже очень серьезно, и малолетние бандиты даже не думают срывать урок или как-то подшучивать, допустим, над «Рисовальным отцом Леонидом» – преподавателем, требующим, чтобы количество карандашей, с которыми ученики приходят на урок, было ровно двадцать один. Или вот другое, допустим, его «чудачество»: «Леонид Сергеевич терпеть не мог коротыши – то есть рисование коротенькими карандашами. Увидев у тебя коротыш, выхватывал его из рук и ловко забрасывал на верх стоявшей в углу круглой, белого кафеля печки. Если обратить внимание на эту печь, то на ней за окантовочным карнизом возвышалась целая выпуклая горка обрубышей-карандашей, отправленных туда мастером в разные годы».
Книге предпослано посвящение «Памяти старинного ученика рисовальной бурсы (СХШ) Бориса Абрамовича Заборова эта книга посвящается», но не менее уместным, думаю, здесь был бы и эпиграф из Пушкина, его знаменитое «Наставникам, хранившим юность нашу... Не помня зла, за благо воздадим». Главная часть книги – «Сэхашовские антики» с рассказами о чудаках и оригиналах, преподававших в школе.
«Мне хотелось вспомнить все возможные события, происшествия, связанные с учителями... которые, несмотря на наши «безобразия», первоклассно учили нас; вспомнить неожиданную по тем временам свободу поведения, позволившую нам стать самими собой без оглядки на какое-то воспитание или принуждение. Нам сильно повезло, если вспомнить годы, в которые мы учились. Мы благодарны нашим педагогам-антикам за то, что они не «вымучили» нас, не лишили живого отношения к жизни, не задавили природные данные, непосредственность восприятия мира, не «погасили» юмор, проявлявшийся в проделках и шутках».
Не сомневаюсь, что «Дети...» получат значимые литературные премии, как получили их в свое время другие книги Эдуарда Степановича Кочергина, но уместным, полагаю, будет, если эту книгу наградят и педагогические инстанции. Не припоминаю, чтобы в последние годы кто-то из современных авторов писал об учителях столь же сочно, благодарно и неравнодушно.
Эдуард Кочергин. Дети моста Лейтенанта Шмидта. СПб.: Вита Нова, 2021.
|
|