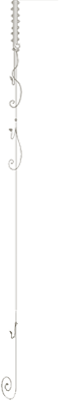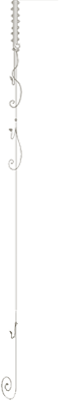|
|
Публикации
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
|
Русский Кэрролл. Тридцать восемь бесед об авторе "Алисы в стране чудес"
Елена Калашникова
Газета "Культура", №27 (7690) 16-22 июля 2009 г
Русский Кэрролл.Л.Кэрролл. Тридцать восемь бесед об авторе "Алисы в стране чудес"
Льюису Кэрроллу с Россией повезло. Он только однажды побывал за границей. В 1867-м. Да-да, именно здесь. Возможно, эта поездка и определила то, что "ни в одной другой стране, помимо его родной Англии, он не возбуждает такого интереса, как у нас" (Нина Демурова).
Нина Михайловна Демурова, известный переводчик и литературовед, популяризатор творчества Кэрролла, чьи переложения "Алисы в стране чудес" и "Алисы в Зазеркалье" любимы несколькими поколениями русских читателей, собрала замечательно интересную книгу о том, каким видится английский писатель нашим соотечественникам.
В сборнике тридцать восемь бесед с переводчиками, математиками, художниками, композиторами, режиссерами. Тут Ольга Седакова и Григорий Кружков, Андрей Хржановский и Май Митурич-Хлебников, Геннадий Калиновский и Леонид Тишков, Юлий Данилов и Юрий Погребничко... Эпиграф к книге - первые фразы из "Алисы в стране чудес": "Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки; разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра, но там не было ни картинок, ни разговоров. "Что толку в книжке, - подумала Алиса, - если в ней нет ни картинок, ни разговоров?" Свою роль автор видела в том, "чтобы поставить вопросы, вести беседу, дать человеку высказаться", но не "приводить многообразие высказанных здесь мнений к одному знаменателю". Нина Михайловна предстает здесь с новой для читателя стороны - вдумчивым слушателем и чутким интервьюером.
Помимо разговоров, в книге собрано более ста цветных и черно-белых иллюстраций отечественных художников к произведениям Кэрролла.
Открывает сборник беседа с переводчицей Александрой Борисенко. Сказку об Алисе читала ей вслух бабушка: "Можно сказать, что эта книга определила для меня выбор профессии, - именно в ходе бесконечных чтений книги выяснилось, что существует особая литература - английская (куда потом добавились Мэри Поппинс и Винни Пух), и особая профессия - "переводчик". "Художник Юрий Ващенко рассказывает о том, как работал над двумя сказками об "Алисе": "Мне казалось, что это должно быть издание для взрослых, что оно должно заинтересовать прежде всего взрослых... Философский текст Кэрролла меня, конечно, интересовал больше всего. "Разглядывание" привело к тому, что практически каждая ситуация, каждая коллизия становилась настолько значительной, что могла быть полосной иллюстрацией, обложкой, шмуцтитулом - чем угодно. Выбрать было невозможно. И вот тут-то стало ясно, что действовать надо так: мы сначала набираем текст, смотрим, где остаются пустые места (кроме комментария), и туда вставляем иллюстрации. Оказалось, что это было правильным ходом".
Галина Заходер предоставила автору фрагменты дневников своего мужа, Бориса Заходера, периода его работы над переложением "Алисы": "Говорят, произведение, если оно удалось, переносит читателя в то душевное состояние, в котором был тот, кто его писал. Не удивлюсь - я всерьез этого побаиваюсь! - если у кого-то из читателей моего пересказа "Алисы" явится острое желание закурить. Или занять денег. Ведь работа над "Алисой" происходила именно тогда, когда я особенно остро ощущал обе эти нехватки - и никотина, и денег..."
Завершает книгу беседа с Маргаритой Рушайло, чей муж, Александр Рушайло, собрал большую коллекцию, посвященную Кэрроллу, - игрушки, переводы его текстов на разные языки, иллюстрации к ним.
Да, Льюису Кэрроллу с Россией, несомненно, повезло. И книга Нины Демуровой - новое этому подтверждение.
Демурова Н. Картинки и разговоры: Беседы о Льюисе Кэрролле. СПб.: Вита Нова, 2008 .
|
|
Приношение Чайковскому
Никита Елисеев
В духовно-просветительском центре «Святодуховской» Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 23 июня прошел вечер «Музыкальное приношение П.И. Чайковскому», посвященный выходу в свет двухтомной биографии великого русского композитора. Книга Александра Познанского выпущена издательством «Вита Нова» ограниченным тиражом 1110 экземпляров. Как и другие книги издательства, она никогда не будет допечатываться или переиздаваться. Такова принципиальная позиция издательства.
В музыкальном вечере, организованном известным пианистом, лауреатом многих премий и конкурсов, арт-менеджером Александром Гориболем, приняли участие автор биографии, историк и музыковед Александр Познанский, а также лауреат XIV Международного конкурса Мирослав Кунтышев (фортепиано), заслуженные артисты России Илья Иофф (скрипка) и Александр Гориболь (фортепиано). Романсы Петра Чайковского на слова Сырокомли, Ратгауза, Тюркетти, К.Р. (великого князя Константина Константиновича), Алексея Константиновича Толстого и Коплена исполнили Юлия Корпачёва (сопрано), Ирина Матаева (меццо-сопрано), Екатерина Семенчук (меццо-сопрано) и заслуженный артист России Петр Мигунов (бас).
В первом отделении вечера автор уникального по широте охвата материала труда Александр Познанский, посвятивший несколько десятилетий изучению жизни и творчества композитора, рассказал о работе над биографией Петра Ильича Чайковского. Он обратил внимание на болевые точки жизни музыканта – женитьбу, уникальные отношения с меценаткой фон Мекк, ранние годы, проведенные в Училище правоведения, из которых выросла трагическая, единственная в своем роде музыка.
Во втором отделении вечера эта музыка была исполнена. Музыкально-книжное приношение завершилось возложением венка и цветов на могилу композитора, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.
Соединение рассказа о биографическом «соре», мучительных и нелепых житейских обстоятельствах создателя великой музыки и самой его музыки произвело достаточно сильный эффект. Старый, как само создание биографий, парадоксальный вопрос: «А нужно ли знать хлам жизни творца, коль скоро у нас уже есть его симфонии, балеты, его "Размышления" для скрипки и фортепиано и его романсы?» – приобрел неожиданное звучание и значение на вечере, проведенном с истинными любовью и пониманием самого знаменитого российского композитора.
|
|
То, что вы не знали о Чайковском и боялись спросить
Ольга Манулкина
В центре сюжета — книга Александра Познанского «Петр Чайковский. Биография», выпущенная петербургским издательством «Вита Нова». Двухтомник, 1200 страниц, роскошное оформление, пять сотен фотографий, многие до сих пор не публиковались, спокойный, мило-старомодный стиль повествования, богатство цитат плюс отличная редакторская работа.
Спросите: чего мы не знаем о Чайковском? Можно сказать: «кое-чего». Или «многого». Или даже: «ничего». В зависимости от того, как оценивать значимость той стороны жизни Петра Ильича, которая вымарывалась из советских биографий композитора (классик не мог проходить по статье о мужеложестве), а в досоветских тоже не была обозначена.
Книга Александра Познанского, историка, сотрудника библиотеки Йельского университета (США), закрывает этот биографический провал — новостью в его книге обречены стать раскрытые купюры писем Чайковского. «…Желаю, чтобы в радость твою не была замешана та горечь, которую я тогда испытывал по случаю любви к Кирееву».
Это именно биография. Автор не претендует на исследование музыки Чайковского. Но это не есть недостаток; это канон биографического жанра, в котором не сказать чтобы много книг было написано на русском языке о композиторах, — а последние книги о Чайковском датированы аж 1970-ми. Ведущий научный сотрудник Дома-музея Чайковского в Клину Полина Вайдман много лет работает над новым жизнеописанием. Едва ли книга Познанского будет воспринята ею и другими музыковедами как образцовая; тем лучше — больше биографий Чайковского, хороших и разных. В нашем же случае важны такие выходные данные: место действия — лавра; действующие лица и исполнители — Алексей Гориболь и Мирослав Култышев за роялем, сопрано Ирина Матаева и меццо-сопрано Екатерина Семенчук, бас Петр Мигунов, скрипач Илья Иофф. Программа — романсы Чайковского на слова Толстого, великого князя Константина Романова, фортепианное «Раздумье», фортепианно-скрипичное «Размышление». Жанр — посвящение.
|
|
Небоскребы и сфинксы. Шемякин: метафизический и настоящий
Владимир Иванов. Петербургский метафизик: Фрагмент биографии Михаила Шемякина. – СПб.: Вита Нова, 2009. – 384 с.
Так бывает в Петербурге: свернешь в какой-нибудь переулок, и реальность выворачивается лентой Мебиуса. Ты ступаешь по обратной ее стороне, удивляясь легкости перехода. Отмечая, как мгновенно, словно вода в песке, за старыми фасадами исчезает повседневность. Это свойство города. Последний раз такое произошло не так давно на улице Моховой, в редакции журнала «Звезда». Здесь представляли новую книгу о Михаиле Шемякине. К этому событию была приурочена однодневная выставка работ героя книги.
Та звенящая нить петербургской мифологии, которую пряли Пушкин, Гоголь, Достоевский, символисты и многие другие, находится теперь в руках Шемякина. Странным образом она окончательно перетекла из литературы в живопись, хотя почему – странным? Все нормально, как говорил в сложных случаях Иосиф Бродский. Эта эстафетная палочка передается в соответствии не с родом искусства, но с масштабом личности. Ее принимает тот, кто способен ее держать.
Книга о Михаиле Шемякине написана не просто замечательным богословом и теоретиком искусства. Отец Владимир Иванов (сейчас он живет в Берлине) в свое время – один из идеологов основанной Шемякиным группы «Петербург» (1960-е) и его близкий друг. Жизнь его в то далекое время, когда Владимир Иванов еще не был священником, представляется бурной даже по меркам советского андеграунда. Событийный ее ряд венчается поездкой обоих друзей в Сухум для бегства вплавь в Турцию. В результате тренировочных заплывов у Владимира Иванова воспалилось среднее ухо, и от проекта пришлось отказаться.
Если кому-то кажется, что «близкий друг» для автора аналитического труда – позиция уязвимая, пусть обращается к книге без опасений. Да, автор понимает калибр исследуемого явления, но меньше всего его книга является панегириком. Это спокойный и глубокий анализ истоков творчества Шемякина – художественных и духовных. И хотя формальные границы исследованию кладет петербургский период художника, фактическое отсутствие границ как раз и является одним из достоинств книги.
Есть люди, в которых сходятся силовые поля ноосферы. Влияние этих людей многосторонне и обращено не только в современность или в будущее. Оно касается и прошлого, потому что и прошлое не остается неизменным. Столь важный для мировой культуры образ, как, скажем, образ сфинкса, уже никогда не обретет своей полноты без сфинксов Шемякина.
Связи этих людей с «чем-то большим» проявляются в великом и малом. Они очевидны и осязаемы, как осязаемы парашютные стропы того, кто спустился с высоты. На самом простом уровне я бы обрисовал это так. Вот находимся все мы на однодневной выставке Шемякина в «Звезде». В дни гоголевского юбилея. Гоголь не просто предшественник Шемякина в области петербургской метафизики, у них родство кровное: Шемякин иллюстрировал Гоголя, они теперь неразделимы. Достоевский. Для выставки Музей Достоевского предоставил шемякинские иллюстрации к «Преступлению и наказанию»: еще одна важнейшая страница петербургской мифологии. Все происходит опять-таки в «Звезде», где Шемякин выставлялся дважды – в 1962 и 1966 годах. В той самой «Звезде», о которой (вдоль окон проходят призраки Ахматовой и Зощенко) еще раньше вышло фатальное постановление. Наконец, выставка – однодневная, что также символично, поскольку советские выставки Шемякина были крайне непродолжительны: обычно их тут же закрывали.
Для того, кто в совокупности знаков склонен искать закономерность, вывод один: Deus conservat omnia (Бог сохраняет все: эта фраза затрагивает, как известно, еще один метафизический пласт Петербурга). То, о чем я говорю, не просто цепь ассоциаций, это густой «петербургский текст», который можно читать бесконечно. Немыслимое количество авторов, героев, событий, высказываний на каждый метр петербургской площади. Культурная память в беспримерной концентрации: где еще столько всего собиралось за три с небольшим века? Прошлое никуда не уходит. Оно живет на равных с настоящим, нужно только уметь его пригласить.
Здесь я хочу сказать о Саре де Кей, жене Михаила Шемякина. Идея провести вечер в «Звезде» принадлежит ей. Сару (портрет жены художника) я бы назвал человеком света и гармонии. Несмотря на кажущуюся литературность, определение отражает и физическую, и метафизическую ее сущность. Это, наверное, и объясняет ее особое место в мире Шемякина, способность стать его alter ego, не теряя в то же время собственного «я». С годами все больше в этом убеждаюсь. Сара не просто мыслит, как он, чувствует, как он. Она даже говорит, как он, что для человека, выросшего в иной языковой стихии, чрезвычайно сложно. Американка Сара говорит по-русски без акцента. Дело здесь, думаю, не столько в ухе, сколько в сердце. Безукоризненное владение языком близкого человека – это, безусловно, форма любви.
Сара фотографировала зал. Из картин, висевших на первой, 47-летней давности выставке в «Звезде», удалось разыскать только две. Сара фотографировала Шемякина. Он рассказывал о том, что запомнилось на первой выставке. Запомнился ему художник Михнов-Войтенко, чьего появления тогда все почему-то очень ждали. Выставку Михнов-Войтенко посетил. Он внимательно осмотрел картины и, ни слова не говоря, направился к выходу. Михнова-Войтенко все-таки догнали и спросили о его впечатлении. «Обои красивые», – задумчиво произнес Михнов-Войтенко. По мнению Шемякина, в 1962 года обои в «Звезде» были отвратительные.
Юмор Шемякина. Юмор (ирония) как средство проникновения в глубь действительности, как метод, если угодно, ее расщепления и переваривания. Недаром петербургские метафизики (Гоголь и даже Достоевский) явили среди прочего непревзойденные образцы юмора. В связи с «гофманианством» Шемякина о метафизической иронии пишет Иванов: «Без этого элемента искусство замерло бы в холодном совершенстве или напыщенной приподнятости над повседневностью». Смех – это взгляд на проблему извне, способность выйти за ее границы и тем самым осмыслить ее.
Если вдуматься, только на первый взгляд кажется неожиданным, что книгу о Шемякине написал священник. Кто еще лучше скажет о метафизике творчества? Осознавая неоднозначность сегодняшнего понимания термина «метафизика», применительно к группе «Петербург» автор определяет его следующим образом: «Термин метафизика нужно принимать как эстетическую эмблему, указующую на творческие процессы, выходящие за рамки повседневного сознания». В рамках разговора о метафизике Владимир Иванов затронул ключевой вопрос: соотнесенность произведения искусства с «эйдосом», идеей. Переходя в более привычный языковой пласт – вопрос о том, что за произведением искусства стоит. Ответ на него лежит в основе различия между Шемякиным и, например, представителями постмодерна. В видении первообраза вещи «усматривается принципиальная разница между метафизическим синтетизмом и постмодернистской эстетикой, добровольно отказывающейся от принципа причастности архетипу. Как следствие такого отказа наступает состояние творческого бесплодия, компенсируемого иронической игрой с цитатами».
Речь здесь идет о ситуации, когда средство становится целью. Когда произведения искусства не отражают мира первообразов, а становятся феноменом стиля. Замечу кстати, что настоящий художник несводим к стилю (стилям) своего времени. Он принимает стиль во внимание, но им не ограничивается. Так, комбинирование слов «барокко» и «классицизм» само по себе не способно объяснить музыку Моцарта.
Обращаясь за иллюстрацией к более близкой мне словесности, скажу, что есть настоящая литература и литература приема. Разница та же, что между кровью и клюквенным соком. Есть люди, виртуозно жонглирующие мячом, но в большом футболе им никогда не оказаться, потому что настоящая игра состоит не в этом. Чтобы быть лучше понятым, упомяну двух современников, две «птичьи фамилии» – Сорокин и Соколов. Тексты Владимира Сорокина – набор стилевых цитат, произведения Саши Соколова – застывшие в ломаных фразах муки сознания. Первый – игрушечный, второй – настоящий.
В этом пункте я подошел к самому для меня точному определению Шемякина. Он – настоящий. Таким его делает метафизичность, диалог с первообразами отражаемых им вещей. Это понимал и академик Лихачев, в художественном мире которого авангард, вообще говоря, не занимал центрального места. Обладая абсолютным вкусом, Дмитрий Сергеевич сразу оценил творчество Шемякина и стал одним из самых авторитетных сторонников установки его скульптур на берегах Невы.
И теперь они здесь стоят. Пусть смотрят на них те, кто любит Петербург: они укрепятся в своем чувстве. Пусть смотрят на них те, кто Петербурга не любит: возможно, это удержит их от строительства газпромовского небоскреба. И все мы будем ждать новых работ Шемякина – метафизических и настоящих.
|
|
О народце мелкого счастья
Издательство «Вита Нова» переиздало книгу главного художника АБДТ им. Товстоногова Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла»
Люди, о которых он пишет, маргиналы и аутсайдеры, на страницах 35 рассказов «рисовального человека» кажутся ближе и понятнее. По всему видно, автор знаком с материалом не понаслышке. Воспитанник детприемников, выросший среди дворовой шпаны и нищих созданий, населяющих послевоенный Ленинград, художник сумел высоко подняться «со дна» – на сцену одного из главных драматических театров Петербурга. Впервые книга Кочергина увидела свет три года назад. Сегодня в репертуаре БДТ есть одноименный спектакль Дмитрия Егорова, населенный героями кочергинской прозы. «Ангелова кукла» в очередной раз была показана петербургской публике. Поводом напомнить зрителям о нелегких судьбах униженных и оскорбленных стала презентация нового издания книги.
Издательство «Вита Нова» умеет соединять текст с изобразительным рядом. Эдуарду Степановичу самому предложили выбрать художника, творчество которого соответствует описанным образам. Он подумал некоторое время и отправился в Париж – в мастерскую белорусского художника, ставшего частью французской культуры, Бориса Заборова. Его живописные работы – копии старых фотоснимков – несколько лет назад были представлены в Русском музее. Анонимные портреты людей, теперь уже не имеющих имени, профессии, судьбы. Именно в этих лицах Кочергин разглядел своих «бушлатов на костылях», «обрубков», «затырщиков» и проституток.
Очень вероятно, что на фотографиях, служивших натурой художнику, запечатлены европейские аристократы. Он находил эти кадры в семейных альбомах парижской богемы, иногда в архивах, одалживал у случайных знакомых. Героев картин Заборова и городских чудиков со страниц «Ангеловой куклы» сближает одиночество. Репродукции картин и текст органично дополнили друг друга, стали одним целым, будто символизируя двуликость Петербурга – Ленинграда, роскошного и нищего одновременно.
Основные места, где происходят описанные автором события, – Васильевский остров и Петроградская сторона. А на картинах Заборова угадываются силуэты старого Парижа.
Два художника выросли в разных мирах. «У нас общее мироощущение», – говорит Эдуард Кочергин.
«Ангелова кукла» в новом варианте напоминает фотоальбом: потрепанные временем снимки и текст как пояснение к ним. Каждый рассказ получился диалогом художника и писателя.
На презентации своей книги Эдуард Степанович сам прочитал два рассказа. С удивительной любовью он рассказывает о «народце мелкого счастья»: «хулиганской пацанве», «агрессивных волченятах», «промокашках» и прочих попрошайках.
|
|