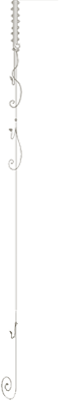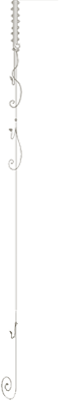|
|
Публикации
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
|
Про Степаныча, Матку Боску Ченстоховскую да «Св.Иосифа»
Наталья Рубанова
По батюшке автора величать хочется: Сте-па-ныч, не иначе.
И – шляпу снять.
Руками развести.
А потом – слушать, слушать.
Долго.
Зачем – неведомо, ведь «всё уже было».
Лицо мальчика – фотография энкавэдэшного детприемника, пос. Чернолучи, год 1945-й – кажется строгим и одновременно ироничным: листаю приложение, губы поджимаются – вот они, карты дорог, маршруты «бега» длиною в шесть лет! Архивные фото 40-50-х – очередь за пайкой, собрание, перроны, эвакуация и пр. – чередуются с песенными текстами о человечке, чье изображение увидела я впервые на внутренней стороне старой деревянной шкатулки (чьих рук дело?): было мне пять, усы слегка напугали… Но: «От края до края» Инюшкина, «Песня о Сталине» и «Песня дружбы» Суркова, «Песня советских школьников» Гусева, «Бескрайние дали» Левина, – а вот, скажем, под Баха и бездарный видеоряд в выгодном свете предстанет; р я д же Кочергина под виртуальные фанфары, гремящие в честь гламурного вождика, работает на контрасте отлично – впрочем, п р и е м ы автору (словечко какое странное… применительно к Степанычу-то…) не нужны. «Записки на коленках» – жанр идеальный для описания того, кто «родился с испугу». Того, кто, перевозимый подальше от войны из города в город, после ареста матери-польки оказывается – да змей пшекающий просто! – в омском детприемнике, он же ДП, созданном аккурат для детей «врагов народа».
Степаныч – мастер деталей: «чуйка»-то первоклассная… да, собственно, весь роман (впрочем, какой же это роман, когда – жизнь целая, непридуманная, именно что честно, – хоть и подворовывал мальчишка у эсэсерии расчудесной, – прожитая!) – это и есть одна, быть может, большая деталь, не заметив, пройдя мимо которой прийти к сколько-нибудь адекватному пониманию очень простых, «очень вечных» вещей, трудно: это к тому, что в школках проходить надо, в школках… запоем читать будут.
Еще деталь: насельники ДП получают из года в год, 21 декабря, в день рождения вождика, кусок хлеба с маслом – «за детство счастливое наше спасибо, родная страна!». Вот Степаныч и благодарит, благодарит, как может: на вопрос, «чем на жизнь зарабатываешь», отвечает «профиля вождей выгибаю» – Ленина со Сталиным выгибать научился так из проволоки, что даже от голода не умер: кормило искусствушко-то, рукастый мальчонка, талантливый (товар, что называется, с молотка шел) – и у китайца-художника поучиться успел, и «лесную науку» у промышлявших гашишем «лесных людей» постиг, и ворышом-скачком был, и пацаном-майданником, и колонистом-татуировщиком, и «придворным художником паханствующих блатных»… Двенадцать лет казенных домов, ночевки в подвижных составах всех видов и мастей: на север путь держал, в Питер любимый выбраться мечтал, матку Броню найти…
Доехал-таки. Нашел: живой, худющий, ни разу не стукач.
Ни одного слова лишнего.
Все – на месте, ладно-складно, чин-чинарём.
Будто бы отстраненно.
Не о себе.
Почти иронично.
С любовью к собаке и погибшему «кенту»: любовью той самой, для которой слова – материал слишком грубый.
|
|
Эдуард Кочергин "Крещенные крестами"
Евгений Мякишев
Не без опасения я начал читать эти «записки на коленках». Опасение имело под собой реальную почву, точнее — непреодолимую, неизбывную трясину, в которую меня некогда погрузили «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и гениальные «Колымские рассказы» Шаламова...
Отложил книгу только после того, как внимательно рассмотрел приложенные в конце фотографии сталинской эпохи: «Путешествие по Эсэсэсэрии».
Кочергин по-хорошему простым и доступным языком рассказывает о своем детстве сына «врага народа». Начиная с возраста, когда едва научился ходить, — с крещения и со ступеней Католического костёла на Невском проспекте. «Меня почему-то заставили преодолевать их самого — с огромным трудом, всеми способами: ногами, на коленках, с помощью рук, перекатами…»
Собственно, весь роман Кочергина об этом: о преодолении той жизни, в которой его «заставили». И повторно «крестили крестами», то есть тюрьмами. О побеге и длительном возвращении в Ленинград. О детприёмниках НКВД, колониях, овладении «воровскими» специальностями: «Профессия скачка-маршрутника требовала не только ежедневных тренировок, но и холодного расчёта, смекалки, наблюдений, разведки». Ещё во время странствий и отсидок талантливый «пацанок», теперь — известный художник, учился выгибать профили вождей из проволоки и рисовать карточные колоды. Тоже для того, чтобы выжить.
После крутого маршрута длиной в шесть лет послевоенный Ленинград ошеломляет героя, уже подростка, масштабами своего «внутреннего пространства». Но увиденное мальчик оценивает в соответствии с приобретенным опытом. В заключительном сне за ним гонится армия великанов-мусоров, шестёрка коней на арке Главного штаба запряжена в древний воронок, управляет ей «лупоглазый прокурор», на крыше Зимнего дворца стоят вертухаи с длинными винтовками. «Спаси и помилуй», — молится герой и просыпается на словах матки Брони: «Ты один мужик в роду и должен жить».
Книга мне не просто понравилась — она поколебала мою убеждённость в том, что про эпоху «усатого» всё уже сказано.
Cильное и достойное повествование. Без чернухи и смакования ужасов.
|
|
Житие шустрых. Эдуард Кочергин. "Крещенные крестами"
Андрей Архангельский
Столько написано, казалось бы, про войну и послевоенное время, но документальное свидетельство все равно бьет любую художественную форму. Кочергин не рассказывает, а сказывает. Попрошайки обращаются к фронтовикам с заученной фразой: "Дорогие народные спасители, товарищи военные солдаты и дядечки офицеры! Разрешите вам спеть о великом Сталине и показать его в профиле". Клички у надзирателей детоприемника НКВД: Тылыч, Пермохрюй, Шкетогон, Однодур и Многодур. Памятник Ленину дети называют "Лыска в аду".
Жизнь малолетнего автора состоит из житья в детоприемниках и побегов из них, всего шесть или семь раз: "Меня поймали, и я снова стал собственностью государства". Экстремальная роуд-муви, масса интересных встреч по всей России: "Лесные люди умеют складывать такой костер для обогрева шалаша или палатки, который после растопки горит сам пять шесть подряд без ухаживания за ним". "Торговые тетки в Предуралье злые, недобрые, спрашивать бесполезно — могут и легавых позвать".
Перед нами жизнь, параллельная краткому курсу ВКПб: здесь живет-может, торгует и ворует огромная страна, временно оставшаяся без попечения вождей.
Юный человек, набираясь ума-опыта, оказывается зажат между двух миров: репрессивной машиной государства и криминальным миром; там воры, а здесь — начальники. Вертикаль власти устроена одинаково: пахан, воры, ссучившиеся, шестерки, фраера и петухи-парашники. Самые востребованные в обществе профессии: умение делать татуировки и рисовать игральные карты. Три месяца воры обучают мальчишку специальной гимнастике, желая сделать из него шпилера (вора-форточника). Вершина карьеры — придворный художник при пахане. Если у воров искусство кручения Сталина из проволоки приветствуется, то государство за это сажает в карцер: "Образ великого Сталина могут создавать только заслуженные товарищи-художники".
Это грандиозная вещь на все времена — о том, как на самом деле устроена Россия, и как в ней выжить: здесь нужно уметь быстро бегать, уметь подмазывать паханов и начальников, уметь притворяться ничем, попрошайничать, нехитро развлекать людей, всегда быть готовым сбежать и не иметь ни перед кем долгов.
|
|
Эдуард Кочергин "Крещённые крестами"
Сергей Беляков
Уникальная книга. Потрясает сама история. Летом 1945 года семилетний мальчик бежит из детприёмника НКВД под Омском и в течение шести лет добирается до родного Ленинграда. Летом по железной дороге. «зайцем», с помощью добрых людей, прежде всего недавних фронтовиков, а то и с воровской бандой. Зимовать приходится в детприёмниках.
Эта личная история совмещается с широкой картиной ушедшего времени. Железная дорога – средоточие тысяч людей, с их бедами и жизненными драмами. Картину дополняет приложение «Путешествие по Эсэсэсэрии»: фотографии 1940-х и тексты песен сталинской эпохи.
Замечателен язык повести, включающий разные речевые стихии. Детский (сиротский) фольклор, детский полутюремный сленг (кстати, очень образный). Капутка – медчасть в детприёмнике, шкеты, козявы, колупы (колупашки) – дети разного возраста, «лыска в саду» – гипсовый бюст В.И. Ленина среди горшков с цветами. Много блатной лексики, но каждое слово поясняется. Автор обошёлся без нецензурных слов. Создавая колорит и речевые портреты героев, ненормативные слова не замутняют литературного языка повести.
Много зрительных образов. Наблюдал будущий художник, писал художник состоявшийся.
Первое посещение костёла: «очень много белого – одежд, цветов, света».
Фантастический сон мальчика, в котором переплелись опыт полутюремного детства и первые впечатления от имперской столицы: «…с верхотуры арки прямо на нас сорвалась шестёрка чёрных лошадей, запряжённых в древний воронок, подгоняемый лупоглазым прокурором <…> мы побежали ещё быстрее по оставшемуся свободному коридору к спасительному золотому кораблику <…> и все заиндевелые вертухаи на крыше царского дворца <…> подняли длинные винтовки и щёлкнули затворами».
|
|
Эдуард Кочергин "Крещенные крестами"
Дмитрий Орехов
Эдуард Кочергин — главный художник Большого драматического театра им. Товстоногова, член Российской академии художеств, лауреат Государственных и международных премий. Поразительно, но известный художник оказался еще и великолепным писателем.
«Крещенные крестами» — это высокохудожественная автобиографическая проза. Кроме того, это документальный роман, роман-путешествие, роман-квест, настолько странный и захватывающий, что он мог бы дать фору многим произведениям в жанре фантастики. Кроме, что это настоящий эпос о беспризорниках времен Великой Отечественной.
Роман начинается в начале августа 1945 года и заканчивается зимой 1951-го. В год, когда огромные массы людей возвращались с фронта, восьмилетний «Степаныч» начал свое путешествие в обратном направлении, с Востока на Запад. Он начал его в детприемнике НКВД под Омском, а закончил — через шесть с половиной лет — в Ленинграде, в объятиях своей матери-полячки («матки Брони»), отсидевшей к тому времени 10 лет за «шпионство».
Пересказать книгу невозможно — ее нужно читать. Вот, например, как главного героя учили на шлипера (вора-форточника): «С утра, кроме всех бегов, приседаний, отжимов, заставляли по многу раз складываться в утробную позу, причем с каждым днем сокращая время, пока не добились секундного результата. Затем вдовоем брали меня за руким и за ноги, раскачивали и бросали с угорья вниз — под откос. На лету я должен был сложиться утробой и плавно скатиться по траве шариком».
Написано так ярко, а материал настолько необычен, что с трудом верится в документальный характер этих записок.
Автор далек от огульного охаивания «Эсэсэрии», он не сводит счеты со Сталиным и НКВД, не давит на слёзы. Просто рассказывает о своем героическом путешествии по вокзалам и детприемникам. Рассказывает так, что временами становится невыносимо страшно, а временами — невыносимо грустно.
Читая «Крещеные крестами», вспоминаешь то Александра Неверова, то Леонида Пантелеева, то Анатолия Приставкина. Теперь в этот ряд нужно принять и Эдуарда Кочергина.
|
|