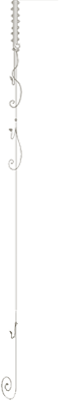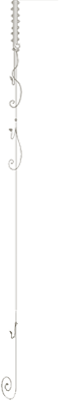|
|
Публикации
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
|
«Крещенные крестами»
Алла Михайлова
После абсолютного успеха первой своей книги — «Ангеловой куклы», Э. С. Кочергин выпустил вторую — «Крещённые крестами». Общеизвестно, что вторую книгу прозы делать куда труднее, чем первую. Кочергин преодолел. Хотя пишет о тех же примерно временах, иногда — о тех же событиях, но у него получилась совсем другая книга. Первая имеет подзаголовок «рассказы рисовального человека», вторая — «записки на коленках». Первая состоит из вполне законченных новелл, во второй новеллы тоже встречаются, но в основном это поток воспоминаний о своём детстве, о многолетнем бегстве из Сибири - в Ленинград, из детприемников — домой, к матке Броне.
Судьба подарила Кочергину уникальное детство. Рассказы о нём ни в коем случае не могу назвать мемуарами. Мемуары подразумевают повествование о прошлом с высоты уже состоявшейся жизни и, таким образом, некую «подгонку» под нее. Жизнь у Кочергина вполне даже состоялась, а вот записки про её начало обладают качеством «непредрешенности». Все время кажется, что это не скорректированные последующей жизнью воспоминания, а нечто, похожее на дневниковые записи. Не «так вспоминаю», а «так было»
И очень удачно, что в качестве изобразительного рефрена „Крещенных крестами использована «Схема железнодорожных дорог СССР 1944 г.». В её документальном виде, и части этой схемы отбивают разделы книги. Столь же точной (спасибо издательству) оказалась идея присовокупить отдельным альбомом «пристанционные» и другие фотографии тех лет. В основном любительских, из домашних архивов. «Так было», — свидетельствуют они. Что очень важно для этой книги. Хотя, конечно, это не детские записки, а вполне сделанный текст. И сделанный превосходно. Очень подходит старинное слово «сказывает». Стилизация? Ни в коем случае! Есть поразительное чувство слова, мастерство интонирования, мелодическая линия. Хотя повествование включает и блатной жаргон, и кликухи, и прочие образцы словесного изобретательства «представителей низовой культуры». И языкотворчество самого автора. Потому что никак не могу поверить, что монолог, который приводится Кочергиным в главке «Начальница школы», полностью принадлежит этой женщине. Запомнить его в таком обьёме невозможно даже для памятливого на слово мальчика. Судите сами: начальница пришла вразумлять разбушевавшихся переростков. «Причем, в ее ругательном уроке не употреблялось ни одного матерщинного слова, — уважительно пишет Кочергин (как и в его книге, замечу я попутно). Она награждала их такими сочными кликухами, что вся кодла переростков немела, переживая услышанное». Вот начало ее речи: «Ну что, трапездоны трюхатые, снова казаками-разбойниками прикинулись, мухососы шелудивые, курыль-мурыль вонючая!» — и далее аналогичный текст на полстраницы, который заканчивается так: «...Вы, блатари козлоблеи, уразумели науку? В минуту, чтоб порядок в классе был, не то я вас, мудопёров, сама припоганю. К концу её тронной ругани все переростки стояли перед нею, вытянувшись в струнку и не гугукали» (стр. 116).
У книги «Крещённые крестами» есть особая опасность для рецензента: постоянно хочется выписывать целые куски. Держу себя за руку. Борюсь. Трудно.
Хочу заметить, что воспоминания художников, а среди них есть очень талантливые и поучительные, посвящены обычно людям и событиям художнического круга. А обе книги Кочергина базируются на персонажах ленинградского и всесоюзного «дна». Только в «Ангеловой кукле» это так называемые «отбросы общества» (бомжи, проститутки, воры, алкоголики), а в «Крещенных крестами» — отбросы человеческие, которые были органической частью нашего общества, более того — частью его фундамента. Речь идет о многочисленных сотрудниках НКВД — начальниках и начальницах, охранниках-«воспитателях» и прочих служащих детприемников. Среди массы садистов, извращенцев, трусов прятавшихся в заведениях НКВД от фронта, попадались, конечно, и другие. О посудомойке Машке Коровьей Ноге и эстонце-кастеляне, который научил Кочергина японской технике татуировки рассказано еще в «Ангеловой кукле». Здесь тоже. Более разветвлено, если так можно сказать. Хорошие были люди. Дело в том, что Кочергин не писал «ужастик». Он писал ту жизнь, которую выдала ему судьба и которой он жил. Все эти шесть лет, что он провел в бегах, выживая и вырастая, он еще прожил «по горизонтали», двигаясь от Омска на запад, к Питеру, познавая не только ближнее окружение, но и страну. Картина получилась всеобъемлющая. Хотя автор вовсе не имел это в намерениях, отчего дал книге подзаголовок «записки на коленках». И, словно извиняясь, говорит, что всего-то писал «про людей», которые каким-то своим интересом застряли в памяти». Так вот, этот интерес — это интерес узнавания, который с возрастом становится пониманием, что человек — сложен. Потому-то он сложен из очень многих составляющих. Зачастую они нe прирастают друг к другу, искажаются и превращают его в нечто страшное. Но ведь даже эти чудовища были задуманы для другого. Для меня очень показательной фигурой является Жаба — начальница омского детприемника, со всей своей жестокостью, тупым равнодушием к чужому страданию и прочими качествами. Но ведь и в нее судьба вложила способность к творчеству, которую она использовала в карьерных целях, изготовляя портреты Сталина. И не для пропитания, как это делал автор книги и, выгибая из проволоки профиль вождя народов и обменивая его на кусок хлеба. Жаба мостила этими портретами карьеру, чиновничье благополучие. Однако самое-то странное и удивительное, что и эту отвратительную и страшную фигуру в какие-то моменты становится жалко. Жалко потому, что ведь могла бы стать другой. Хоть чуточку другой. Или не могла? Ведь сказано же: «...если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?" (Матф., 6,23)
Но тьму, которая вокруг, автор тогда и не оценивал как таковую, потому как другой жизни не знал. К тому же ее пронизывали вспышки людской доброты, не частые, но особенно яркие на фоне тьмы. И зарисовки вагонного и пристанционного быта тех лет, картинки природы, портреты встречных — всё это освещается каким-то тихим внутренним светом. Книжка о страшном получилась светлой. Вот ведь какие дела.
За шесть лет своего путешествия по жизни Степаныч приобрел многие умения Часть из них привела потом в профессию: рисовал игральные карты, научился трафаретить, делал цветные наколки, гнул из проволоки профили вождей. Всё это — по разряду «изобразиловки». Было и другое. Благодаря невероятной худобе (среди дэпэушников имел кличку Тень) был взят ворами-поездушниками в обучение шлиперскому делу, освоил мастерство форточника и вообще полный обьём навыков поездного вора-скачка. Имел практику. Кое-что из воровской школы пригодилось впоследствии: приемы защиты и нападения в драке, быстрота реакции.
Одно из самых ценных приобретений — умение складывать и разжигать костер. В том числе из самых сырых дров в самую сырую погоду. Но это уже не от поездушников, а от «лесных волков», персонально — от Хантыя. Спасибо ему. Кстати, именно Хантый рассказал Кочергину о связи земляного огня с солнцем. И почему-то кажется мне, что пожизненный интерес художника к мифологическим корням повседневности начался оттуда. И вообще, умение разжигать костер — это не только про дрова. Д. Л. Боровский, который дружил с Кочергиным, ходил с ним по северным деревням, сиживал у его костров, потом сформулировал принцип счастливого театрального сочинительства, как «принцип костра», когда каждый бросает в репетиционный костер свою щепку, не заботясь об авторстве и престиже, и костер спектакля горит всё ярче и ярче.
Отзыв Боровского на «Ангелову куклу», напечатанный в нашем журнале, заканчивался словами: «Эдик, не гаси костер»
Об этом очень хочется просить Эдуарда Степановича Кочергина и после второй его книги.
|
|
Разговор о литературе
В гостях у Ирины Кленской Елена Чижова, писатель, лауреат литературной премии «Русский Букер»; Марина Смирнова, директор Литературного фонда «Живая классика»; Сергей Бочаров, критик, историк литературы; Михаил Кураев, писатель.
И.К. – Литературное пространство – это то, что существует, что нас окружает? Может быть, мы придумали все это?
С.Б. – Нет, не придумали. На мой взгляд, пространство – это очень важная вещь. Оно окружает нас, а мы существуем в нем. Я могу рассказать про пространственные вещи.
И.К. – Пространство формирует человека? Оно может его уничтожить, искорежить или возвысить.
С.Б. – Конечно. У меня есть пример, это писатель, произведение которого я читаю. Там пространство, которое может уничтожить, искорежить. Речь идет об Эдуарде Кочергине, писателе из Санкт-Петербурга.
И.К. – Прежде всего он сценограф, замечательный художник.
С.Б. – Совершенно верно. Он театральный художник.
И.К. – Он ставил у Додина.
С.Б. – У Товстоногова он тоже очень многое поставил. Знаменитую «Историю лошади» оформил именно он. Сейчас появилась его книга под названием «Крещенные крестами». Это не церковное, а тюремное название. Речь идет о Крестах из Санкт-Петербурга.
И.К. – О тех самых?
С.Б. – Его жизнь была такой, что у его отца был Большой дом, а не только театр.
М.С. – Он им пользовался довольно долго.
С.Б. – Большой дом – это ГБ. Его отца в 1937 году увели в этот Большой дом, как он пишет, за кибернетику. Его мать полька. От испуга Эдуард выскочил из нее до срока. А его забрали в детский приемник в Сибири. Он там был несколько лет. В 1945 году он бежал строго на запад в свой родной Ленинград. Это бегство продолжалось 6 лет. Он бежал по теплушкам, всяким поездам, естественно, бесплатно.
И.К. – Дошел?
С.Б. – Когда наступала зима, ему надо было сдаваться в какой-то приемник, например, в Челябинске, в Перми. Он там участвовал в уголовной жизни поездных воров.
И.К. – Как из такой ужасной жизни сформировался такой изящный художник?
С.Б. – Я сейчас пишу об этом романе, хочу назвать свою рецензию «Происхождение мастера». Это платоновское название. Когда он бежал из своего первого детприемника, он взял с собой 2 мотка медной проволоки, потому что он научился из нее делать медные профили Сталина. Сталин, который посадил его отца, который лишил его матери, потом спасал и кормил его. Везде он выступал с песней о Сталине.
И.К. – Он приспособился.
С.Б. – Конечно.
И.К. – Его спасло пространство.
М.С. – Сталин его спасал, кормил. Вторая способность, которую он обрел в странствиях, заключалась в том, что он научился делать всякие наколки, татуировки. В одном из приемников он встретился с каким-то человеком, который воевал еще в японскую войну 1905 года.
И.К. – Он быт мастером?
С.Б. – Его научили делать наколки. В бане он увидел, что такое татуировки, что собой представлял этот человек, он был сплошь в наколках. Это был его первый Эрмитаж.
И.К. – Он рассматривал этого человека?
С.Б. – А он подарил Эдуарду иголки, научил ими работать. Эдуард этим тоже зарабатывал.
И.К. – Так он стал художником.
С.Б. – Он делал татуировки с изображением того же Сталина.
И.К. – На людях?
С.Б. – Про Сталина у него очень много. У меня есть его другая книга «Ангеловы куклы». В ней Эдуард писал не про Санкт-Петербург, а про Ленинград. Там есть рассказ «Шишов переулок», который был везде опубликован в прошлом году. Это небольшой переулочек, где в окно выставлен большой Сталин в форме генералиссимуса, вырезанный из «Огонька». За этим окном живут девушки. Рядом Академия художеств. Они там позируют художникам, а дома зарабатывают иначе. Если Сталин повернут одним боком, значит, девушки свободны.
И.К. – А если иначе?
С.Б. – Значит, они заняты.
И.К. – Это тоже пространство.
С.Б. – Это промокашка.
И.К. – Грубое пространство.
С.Б. – Конечно.
И.К. – А получился изящный тонкий человек.
С.Б. – Пространство в этой книге есть. Там замечательные фотографии, это повесть о детстве.
И.К. – Как это возможно?
С.Б. – Такой повести о детстве никогда не было и не могло быть в русской литературе. Там масса фотографий, это подтверждает документальность повествования. Есть и схема железных дорог Советского Союза. Там мельчайшее пространство.
И.К. – Как оно сформировало, не убило, не уничтожило этого человека, художника?
С.Б. – Не убило.
И.К. – Почему?
С.Б. – Об этом надо у него спросить. Скорее всего, потому что он был художником.
И.К. – Он таким родился.
С.Б. – Он был призван к этому.
И.К. – Он шел по своему пути.
С.Б. – Конечно.
|
|
Контрапункт
Никита Елисеев
Самое интересное рождается на стыке. На стыке искусств, жанров, биографий. Здесь может случиться и неудача, уж слишком разными будут столкнувшиеся жанры и судьбы. Но что-то влечет поэтов «рифмовать гараж с геранью», а писателей – «сопрягать далековатые идеи». Что-то влечет к тому, что называется контрапунктом.
Скелет в искусстве
Можно ли проиллюстрировать пьесы сценографическими этюдами? Будет ли восприниматься книга пьес, где вместо картинок – рисунки художника-сценографа, обстановка, в которой должен разворачиваться спектакль? Никто до сих пор на это не решался. Издавались альбомы художников-сценографов, но текст пьесы и сценография соединялись только на сцене, не в книге.
Это объяснимо. Сценография – скелет спектакля. Скелет этот обрастает плотью действия, звучащим текстом. Однако искусство – та область, где даже скелеты красивы. Подстрочник стихов – осмысленно красив. «Скрежет железных сапог слышен в цветении вишен», разумеется, хуже, чем Ein Knirschen von eisernen Schuhn ist im Kirschbaum, но ненамного. Вот и хорошая сценография ненамного хуже самого спектакля. Она ведь тоже интерпретирует пьесу, как перевод интерпретирует стихотворение. Особенно если это сценография замечательного питерского художника Эдуарда Кочергина к великим пьесам Антона Чехова.
Дом, проросший деревьями
Вы правильно догадались: в Петербурге издали сборник пьес Чехова, проиллюстрированный сценографией Кочергина. В день рождения знаменитого русского драматурга в Доме актера на Невском открылась выставка чеховских работ художника. На открытии выступали артисты Валерий Ивченко, Иван Краско, Тамара Абросимова, Наталья Акимова, участвовавшие в чеховских спектаклях, оформленных Кочергиным.
Спектакль – самое живое из всех произведений искусства. Потому-то он и умирает. Потому-то воспоминания о прежних спектаклях оказались в тон дню рождения Чехова и кочергинской сценографии. Ведь главная пьеса Чехова «Вишневый сад» – о том же самом, о необратимости времени. Вишни цветут три-четыре дня, не больше, потом облетают. Вместо белых цветов – черные сучья. Уже в название Чехов вколотил тему пьесы – обреченность дворянской культуры в России.
Три дня красоты, а потом – топором под корень. Каким образом спасти эту культуру – совершенно непонятно, потому что она и сама не особенно хочет спастись. Вообще-то, это тема всех пьес Чехова, умершего в 1904 году, накануне первой революции, обернувшейся полномасштабными социальными изменениями. А Эдуард Кочергин живет после этих социальных изменений. Он знает все, что могло или даже должно было случиться с чеховскими героями, надеявшимися увидеть небо в алмазах и мечтавшими как следует, до полного физического изнеможения поработать на кирпичном заводе.
Это свое знание художник воплотил в сценографии. Если посмотреть все его чеховские работы, начиная с самой первой – пьесы Леонида Малюгина «Насмешливое мое счастье», монтажа из чеховских писем, поставленного в 1968 году в Театре им. Комиссаржевской, и заканчивая неосуществленной постановкой «Чайки» 2008 года, то станет понятен повторяющийся образ. Деревянный дом, в который вторгается мир. Дом, проросший деревьями. Дом, одна из стен которого проломлена, так что в проломе видна черная пустота. Дом, в полу которого круглый пруд.
Первый спектакль
Больше всего вспоминали о спектакле «Насмешливое мое счастье». Это справедливо, потому что забывать его не стоит. Смонтировал чеховские письма ленинградский драматург Леонид Малюгин, поставил спектакль Кама Гинкас.
Это вообще был первый спектакль Гинкаса. В нем Станислав Ландграф играл Чехова. Играл не совесть нашей культуры, а автора писем – человека, который мог сказать или написать самые разные слова. В этой истории были провинциальные детство и отрочество в Таганроге, но смерти в Германии – «подыхать еду… испугалась, шельма» – и прочего «их штербе» с шампанским не было. Были молодость и мягкость.
Тут важны биографии режиссера и художника-постановщика. Кама Гинкас во время войны оказался в вильнюсском гетто и чудом выжил. У Эдуарда Кочергина в 1937 году арестовали отца и мать, сам он до 1946−го скитался по детприемникам и бродяжничал. (Обо всем этом художник написал в своих современных книжках «Ангелова кукла» и «Крещенные Крестами».)
Вот он, контрапункт посильнее сценографических этюдов в сборнике пьес. Те, кто в детстве смог выжить в условиях террора, ставят пьесу о человеке, писавшем про взрослых людей, обреченных на гибель в своих поместьях. Как Гинкас и Кочергин смотрели на героев чеховских пьес? Наверняка с сочувствием, жалостью, недоумением. Да и сам Чехов так же смотрел на своих интеллигентных героев. У него была все та же разночинская жизнестойкость. Безостановочная, жестокая работа и такой же безостановочный, жесткий подъем от юмориста, пописывающего рассказики в журнальчиках-однодневках, до писателя мирового класса, драматурга, обновившего язык и мир театра. Такой человек и драматург куда как понятен и близок человеку и художнику, проведшему детство в детприемниках и на улицах городов послевоенного Советского Союза.
Что и делается очевидным, когда листаешь сборник пьес Чехова, проиллюстрированный сценографическими этюдами Кочергина. Здесь снова контрапункт, столкновение, потому что книга издана богато, на мелованной бумаге, в золоченом переплете. Издана так, как издавали книги в начале ХХ века, а внутри – тексты пьес перемежаются напряженными, трагическими, порой почти сюрреалистическими рисунками того, кто в условиях последовавших потрясений выжил.
«Пьесы Чехова в сценографии Эдуарда Кочергина». Открытие выставки и презентация книги. Центральный дом актера
|
|
Чеховские мотивы
Татьяна КИРИЛЛИНА
До 8 февраля в Доме актера имени К. С. Станиславского (Невский пр., 86) открыта выставка «чеховских» работ прославленного театрального художника, народного художника России, главного художника БДТ им. Г. А. Товстоногова Эдуарда Кочергина.
Чехов и Кочергин — оба люди театра, просто один мыслит вербально, другой — пространственно. И Чехов, и Кочергин привнесли в театр груз своей непростой жизни. Сейчас театр Чехова многие воспринимают как нечто утонченное, но для современников Чехова его пьесы были неприятными настолько же, насколько многим сейчас неприятна «новая драма»; даже далеко не глупым казалось, что это не драматургия вовсе: «Когда он создавал свои пьесы, никто не понимал, что это такое, — напомнил Эдуард Кочергин в беседе с корреспондентом «ВП». — «Чайка» же на премьере провалилась, не знали, как это ставить и играть. А сейчас ясно, что Чехов — предтеча всей современной драматургии: без него не было бы ни Пиранделло, ни Брехта, ни Дюрренматта…»
Эдуард Кочергин — настоящий петербургский интеллигент, человек высоко- образованный и тонко чувствующий. Но — теперь многие знают — в детстве и юности художник прошел через детприемник сталинских времен, шесть лет бежал через всю «эсэсэрию» на родину, в Ленинград, познал совсем не идиллическую жизнь питерского «дна» (об этом можно почитать в уже прославившейся книге «Ангелова кукла» и в вышедшей недавно «Крещенные крестами»). Не сгинуть в послевоенном аду будущему художнику помогла страсть к рисованию...
На церемонии открытия выставки актер Валерий Ивченко сравнил писателя и художника таким образом: «Чехов, как и Эдуард Степанович, — мужики от искусства. Сейчас так мало мужчин в искусстве! Представьте только: Чехов поехал на лошадях из Москвы на Сахалин — кто нынче отважится на такое?..» При всей разности судеб получается, что и Чехов, и Кочергин в весьма некомфортных условиях проехали через всю страну…
Выставка открылась в день чеховского 150-лдетнего юбилея. В экспозиции — эскизы декораций, костюмов, сами костюмы (огромные фигуры ряженых к спектаклю «Три сестры», поставленному в Белграде Георгием Товстоноговым), рисунки к чеховским спектаклям для театров России и Европы… Церемония открытия в Доме актера была одновременно и презентацией книги: в издательстве «Вита Нова» вышло собрание пьес Чехова, оформленное работами Кочергина. Случай довольно редкий: сценография и книжная иллюстрация — искусства совсем не близкие, но Кочергин выработал некий «чеховский язык», и его эскизы придают текстам пьес театральный объем. Присмотревшись, легко можно уловить «чеховские мотивы»: почти отсутствие цвета, прорастающие с самых неожиданных сторон деревья… в эскизе к неосуществленной «Чайке» «колдовское озеро» проступает через швы сценической коробки. В «чеховиане» Кочергина в мир людей проникает время — и жизнь в ее биологическом течении, и эпоха. Первый чеховский спектакль был не по пьесе Чехова, а о Чехове — «Насмешливое мое счастье» в Театре имени Комиссаржевской в постановке Камы Гинкаса. Худрук Комиссаржевки Виктор Новиков на открытии выставки отметил: «В «Насмешливом моем счастье» Эдик сыграл и сделал всего Чехова. Потом мотивы из этого спектакля часто у него встречались». Эдуард Степанович с этой мыслью согласился.
Театралы начала 1990-х помнят, что Кочергин одновременно создал сценографию двух «Вишневых садов»: легкие ширмы — в МДТ, сцену-ящик — в БДТ. «Да я еще третий делал практически в то же время — в Японии! — рассмеялся Эдуард Степанович. — Чехов вообще непрост, но для профессионала это очень интересная задача — сделать его по-разному. Решение зависит от театра, от режиссера, от артистов даже…» А на вопрос, что в Чехове ему особенно дорого, Эдуард Кочергин ответил: «Сочетание точного наблюдения над бытом и метафизики».
|
|
Одинокое дерево тянется в небо
В Доме актера на Невском пр., 86, в день рождения А. П. Чехова открылась небольшая выставка, приуроченная к его юбилею. В маленьком зале разместились эскизы декораций и костюмов, в основном карандашные зарисовки; в витринах – фотографии, афиши и программки спектаклей по знакомым чеховским пьесам. Автор – Эдуард Кочергин, главный художник БДТ им. Г. А. Товстоногова, за свою жизнь оформил более 200 спектаклей, получил несколько Государственных премий и заслужил звание народного художника.
Творчество Эдуарда Кочергина доказывает, какую важную роль играет сценография в авторском (режиссерском) театре. Спектакль получится, если два замысла — режиссерский и художественный — дополняют друг друга. Вместе с режиссерами Георгием Товстоноговым, Львом Додиным, Адольфом Шапиро, Рубеном Агамирзяном и Камой Гинкасом Эдуард Кочергин воплощал камерный мирок обитателей усадеб, тихих судеб и неизлечимого отчаяния. Разные годы, методы и вложенные в диалоги смыслы, но пространство чеховских пьес, каким оно видится художнику, как будто общее. Здесь стены обиты деревом, комнаты полупустые, а тонкие стволы деревьев рвутся ввысь голыми ветками, поближе к небу в алмазах. Люди кажутся маленькими, потерянными фигурками, которые вызывают сострадание. Они просто не знают, что делать с этим простором, раствориться в нем или бежать прочь (в Москву! В Москву!).
Эдуарда Кочергина некоторые искусствоведы считают, скорее, художником остросоциальным, населяющим спектакли «суровыми» символами эпохи. А тут – чеховская хрупкость.
«Антон Павлович Чехов очень большое значение придавал дому как месту, где проходит жизнь, в одном ритме от начала до конца. Родовое имение – это микрокосмос, заключающий в себе черты целой Вселенной. А в душе одного «маленького» хозяина этого дома заложены общая боль и тоска по лучшей жизни и несбывшейся любви. Этот дом велик для двоих, но когда вся семья в сборе, становится тесно. В пьесах Чехова для меня особенно важны избыток пространства, но вместе с тем недостаток воздуха. Герои задыхаются, томятся, не зная, как преодолеть рутину деревенской жизни...» – говорит Эдуард Степанович.
Любопытно сравнить, например, два «Вишневых сада». В 1993 году в БДТ ставил пьесу Адольф Шапиро, а через год в Малом драматическом театре за пьесу взялся Лев Додин. В первом случае сохраняется хоть какое-то подобие уюта, и ветки вишневых деревьев, сплетаясь между собой, напоминают кружева. В театре Додина огоньки свечей отражались в зеркальной воде, и дом, окруженный садом, становился храмом, который хотят продать и разрушить.
Из последних работ на выставке представлены эскизы 2008 года к неосуществленной «Чайке». Снова деревья, простор, ощущение одиночества. И пустые подмостки.
В театральных эскизах Эдуарда Кочергина столько же личного, сколько собственно чеховского. Чувство бескрайнего простора – это из детства детдомовца, прошедшего в бегах из Сибири в Ленинград. Образ одинокого деревца, тянущегося в небо, наверное, тоже оттуда.
Читатели, имеющие возможность прочесть книги рассказов Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла» и «Крещенные крестами», знают, что его литературный метод очень похож на его же художественные приемы (свою прозу он называет «рассказы рисовального человека»). Это личные переживания, ставшие произведением искусства.
В день открытия выставки прошла презентация собрания пьес А. П. Чехова с иллюстрациями Эдуарда Кочергина, подготовленного издательством «Вита Нова». В книге также содержатся комментарии литературоведа Игоря Сухих к пьесам и статья искусствоведа Натальи Хмелевой о творчестве Кочергина.
В завершение вечера теплые слова в адрес Эдуарда Степановича сказали те, кому посчастливилось наблюдать мастера в работе. Не единожды прозвучала мысль: рукотворный мир спектаклей, которые мы никогда больше не увидим, остался в эскизах художника.
|
|