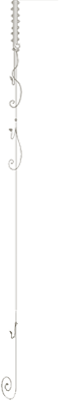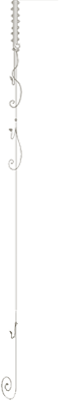|
|
Публикации
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
|
Николай Гумилев любил и умел быть лидером, причем не только при жизни, когда он основал оппозиционную символистам поэтическую группу, а потом собирал вокруг себя поэтическую молодежь Петрограда, но и после смерти.
Замятин писал в 1933 году в эмиграции: За границей имя его знают, главным образом, потому что он был расстрелян ЧК, а между тем в истории новой русской литературы он должен занять место как крупный поэт и глава типично петербургской поэтической школы «акмеистов». Рулевой акмеистического корабля стремился рационализировать поэтическую стихию и ставил во главу угла работу над поэтической технологией. Недаром за последние годы в советской поэзии наблюдается явление на первый взгляд чрезвычайно парадоксальное: молодое поколение пролетарских поэтов, чтобы научиться писать, изучает стихи не Есенина, не автора революционных «Двенадцати» Блока, а стихи рационалистического романтика Гумилева.
Война, и не только поэтическая, была стихией Гумилева. Младшие товарищи по Цеху поэтов вспоминали позже, что Гумилев был их полководцем, а они — его маршалами. Гумилев без колебаний пошел на войну, как и Байрон, но ему не очень нравилась участь рядового винтика военной машины. Г. Адамович писал о своем мэтре: В последние годы жизни Гумилев выработал величественную концепцию поэзии, долженствующей возглавлять мировой порядок. Миром должны управлять поэты, и дело поэзии помогать строить «прекрасную жизнь». Гумилев долго подступался и перевел знаменитый эпос о правителе-поэте Гильгамеше. Правда, Шилейко считал, что для Гумилева важной в нем была не только тема правления: Тема двух друзей, идущих на всякие подвиги и умирающих, — у него была и до «Гильгамеша», так что он просто нечто конгениальное себе нашел. Любил эпизод с блудницей, находил, что это гораздо человечнее истории изгнания из рая. Гумилев любил поэму Вольтера «Орлеанская девственница», сожалел, что по нехватке времени вынужден был оторвать ее от сердца — переводить вместе с Адамовичем, Г. Ивановым и Лозинским. Полагаю, что начало 4-й песни поэмы он перевел с особенным удовольствием:
Будь я царем, не знал бы я коварства.
Я мирно б подданными управлял
И каждый день мне вверенное царство
Благодеяньем новым одарял.
Жанна д’Арк спасла свою родину, вероятно, теми же соображениями руководствовался Гумилев, вступая в «дело Таганцева», стоившее ему жизни. Гумилев перевел известное стихотворение Бодлера о сыновьях Каина и Авеля и себя причислял, конечно, к первым, готовым сбросить даже господа с небес. В посмертно вышедший сборник переводов французских народных песен, подготовленный самим Гумилевым, не вошла песня «Адская машина» о покушении на Бонапарта:
Эта адская машина
В бочке сделана была,
Много пороха, стекла,
Пуль хранила середина,
И была она, о страх,
На железных обручах.
Гумилеву было тесно в России и русской поэзии — он надеялся постичь чудеса всей земли. Переводчик его сочинений на французский язык Шюзвиль вспоминал: Незадолго до этого он женился на Анне Горенко и намеревался отправиться в Абиссинию охотиться на пантер. До поездки он хотел принять участие в ночной экспедиции по канализационной сети Парижа, и мне пришлось его сопровождать на встречи с парой натуралистов, которые промышляли набиванием чучел и, как он считал, могли свести его с истребителями крыс. Гумилев представляется мне потомком крестоносцев и конкистадоров. А может быть, приключения и путешествия были для него всего лишь аскезой. Он мечтал о создании собственной науки — геософии, как он ее назвал, умудренной в климатических зонах и пейзажах. И Гумилев основал шуточное Общество геософов вместе с Мих. Кузминым и Верой Шварсалон. Отзвуком мечты о геософии стал сборник «Шатер» — география в стихах. Любопытно, что он его напечатал тоже в путешествии — в Крым в 1921 году, за несколько месяцев до гибели, в поездке с командующим флотом адмиралом А. Немитцем. Возможность публикации случилась внезапно: судя по всему, Гумилев диктовал стихи по памяти, поэтому это издание сильно отличается от второго.
Он мечтал о создании собственной науки — геософии, как он ее назвал, умудренной в климатических зонах и пейзажах
Поэт путешествовал, как только возникала малейшая возможность. Даже во время Великой войны, несмотря на то, что Россия оказалась отчасти в блокаде, Гумилев побывал в Швеции, Англии, Франции. В Абиссинию он путешествовал трижды, к сожалению, африканский дневник свой Гумилев сделал частично, а он прекрасен: Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол, Сильный и т. д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъём, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы… Сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека… Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались.
Третья поездка в Абиссинию известна досадной невстречей Гумилева с Рембо. Будучи в Хараре, Гумилев посетил местную католическую миссию: В просто убранной комнате к нам выбежал сам монсеньор, епископ Галласский, француз лет пятидесяти с широко раскрытыми, как будто удивлёнными глазами. Он был отменно любезен и приятен в обращении, но года, проведенные среди дикарей, в связи с общей монашеской наивностью, давали себя чувствовать. Как-то слишком легко, точно семнадцатилетняя институтка, он удивлялся, радовался и печалился всему, что мы говорили. Переводчик знаменитого сонета о гласных не догадался спросить священника о его авторе, а молодой писатель Ивлин Во, посланный газетой на коронацию Хайле Селассие в 1930 году, сделал это: Католическая церковь. Меня благословил безумный епископ-капуцин. Сидел у него на диване и расспрашивал про Рембо. «Очень серьезный. Жизнь вёл замкнутую. После его смерти жена уехала из города — возможно, на Тигр» (записные книжки, 18 ноября 1930).
Поэтические и реальные путешествия питали музу Гумилева. В 1918 году соотечественники поэта увлеченно истребляли друг друга и едва заметили (а кто заметил, тот не одобрил) прелестный африканский примитив Гумилева про терпеливого Мика. Конечно, напрасно, ведь в этой грустной поэме связаны эпизоды политической истории Абиссинии, похождения Гильгамеша и прогноз о втором — африканском — пришествии в Старый и Новый Свет:
Как ангел мил, как демон горд
Луи стоял один средь морд
Клыкастых и мохнатых рук...
Вообще, сама жизнь представлялась аллегорическим путешествием, и Гумилев вряд ли случайно перевел в 1914 году поэму символиста Ф. Вьеле-Гриффена «Кавалькада Изольды» о таинственном странствии дамы и ее рыцарей:
Я не стыжусь себя, мечтой согретый,
Я не жалею о поэме этой:
Я знаю, что, последовав за нею,
Я жизнь узнал и проклинать не смею;
…Она дала мне, что хотела дать,
И ничего не должен я прощать;
Ее улыбкой создан я, гляди:
И если ласк ее и не узнал,
Я отдал душу ей — и засиял
Секрет ее души в моей груди…
Гумилев знал, что, избирая судьбу поэта-правителя, он берет крест, и когда готовил избранные переводы Бодлера, то перевел «Благословение»:
Все, им любимые, стоят пред ним в сомненьи,
Или, уверившись, что не опасен он,
Спешат пытать на нем свое остервененье,
Чтоб вырвать из него их радующий стон.
Они с нечистыми плевками грязь мешают
В хлеб, предназначенный ему, в его вино;
И всё, что тронул он, с брезгливостью бросают,
На след его шагов ступить для них грешно.
Гумилев назвал Бодлера исследователем и завоевателем. Стоит ли удивляться тому, что сам Гумилев — геософ, конквистадор, поэт-правитель — не мог не заниматься поэтическим переводом?! И он переводил и в начале своей карьеры, когда в 1908 г. был соредактором избранных стихов Леопарди; и в расцвете своей акмеистической истории, когда в 1914 году выпустил переводы Браунинга «Пиппа проходит» и Готье «Эмали и камеи». Драматическая поэма Браунинга, как, впрочем, и его творчество вообще, не слишком популярны у русскоязычных читателей. Между тем, заглавная героиня поэмы, скромная труженица шелковой фабрики, представляется едва ли не аллегорией поэта, внимательного к высотам и низинам жизни человеческой, и символом влиятельности поэтического слова, во власти которого перемены людских судеб. Разумеется, темы эти волновали Гумилева, а что касается поэтики Браунинга, то влияние его отмечено в последнем сборнике недолгого сожителя Гумилевых, их соседа по квартире — Михаила Кузмина (особенно в «Лазаре»). О книге стихов Готье Мандельштам высказался решительно: Высшая награда для переводчика — это усвоение переведенной им вещи русской литературой.
Скончалась маленькая Мэри,
И гроб был узким до того,
Что, как футляр скрипичный, в двери
Под мышкой вынесли его.
Ребенка свалено наследство
На пол, на коврик, на матрац.
Обвиснув, вечный спутник детства,
Лежит облупленный паяц.
…И возле кухни позабытой,
Где ласковых тарелок ряд,
Имеет вид совсем убитый
Бумажных горсточка солдат.
…И, погружаясь в сон недужный,
Всё спрашиваешь: неужель
Игрушки ангелам не нужны
И гроб обидел колыбель?
(Т. Готье «Игрушки мертвой»)
Особенно же много, и отнюдь не только для заработка, переводил Гумилев в последние годы жизни, энергично участвуя в деятельности издательства «Всемирная литература». Он написал своеобразный манифест «Переводы стихотворные», содержавший девять заповедей поэта-переводчика. Гумилев старался выбирать типические произведения: «Кавалькада Изольды» столь же чистый образчик символической поэмы, как «Атта Тролль» Гейне — поэмы романтической. Гумилев считал стихи самой короткой и удобной для запоминания формой. Шилейко запомнил такие слова друга: В стихах нельзя лгать, если в них солжешь — обязательно плохие стихи будут. Поэтому Гумилев переводил сам и готовил к публикации сборник поэтов Озёрной школы: Кольридж и его друзья, Вордсворт и Саути, выступили на защиту двух близких друг другу требований — поэтической правды и поэтической полноты. Эти стихотворения видишь и слышишь, им удивляешься и радуешься, точно это уже не стихи, а живые существа, пришедшие разделить твое одиночество.
В серии «Новая Библиотека поэта» вышло наиболее полное и комментированное собрание поэтических переводов Гумилева. В него включены 183 текста — стихотворения и поэмы Для краткой характеристики издания можно воспользоваться строчкой из ненаписанного стихотворения самого Гумилева о войне: Кровь лиловая немцев, голубая — французов, и славянская красная кровь. Составители впервые опубликовали переводы девяти стихотворений, привели список утраченных или не обнаруженных пока переводов. Мнения современников — друзей, коллег, критиков о Гумилеве-переводчике достаточно противоречивы. Чуковский критиковал гумилевский манифест и перевод «Поэмы о старом моряке», записал в дневнике мнение Анны Ахматовой — ужасный переводчик, но о работе Гумилева над «Сфинксом» Уайльда отозвался хорошо: Он перевел умело и быстро. Вас. Гиппиус назвал ориентальные переложения «Фарфорового павильона» пряниками по китайскому рецепту. К. Мочульский считал, что в сборнике французской народной поэзии дух французской песни воспроизведён превосходно. Сергей Ауслендер переводил сборник новелл Мопассана и попросил Гумилева переложить стихотворение Луи Булье в «Сестрах Рондоли»: Когда я приехал, Гумилев только начинал вставать. Он был в персидском халате и в ермолке. Держался мэтром и был очень ласков. Оказалось, что стихи он ещё не перевел. Я рассердился, а он успокоил меня, что через десять минут все будет готово. Вскоре приехала Анна Андреевна из Царского, не сняв перчаток, начала неумело возиться, кажется, с примусом. Пришел В. Шилейко. Гумилев весело болтал с нами и переводил тут же стихи. Академик Гаспаров назвал гумилевский перевод начала «Дон Жуана» Байрона неплохим:
Но ах. Он умер: гонорар судей
И скорбь толпы в могиле с ним пропали:
Дом продали, уволен был лакей,
А двух его любовниц разобрали
(Как говорили) пастор и еврей,
И доктора мне после рассказали -
Он умер, схвачен лихорадкой злой,
Вдову оставив жить с ее враждой.
Степень владения Гумилевым иностранными языками тоже была под сомнением. Разумеется, абиссинские песни ему переводили французы, стихотворения «Фарфорового павильона» он переводил из антологии Жюдит Готье, поэму о Гильгамеше — по французскому изданию и исследованиям Шилейко. Но вот Шилейко не мог вспомнить, чтобы Гумилев цитировал английских поэтов по-английски. А Олдос Хаксли так писал невесте своего брата о встрече с нашим героем: Мы с ним, причем оба с немалым трудом, объяснялись по-французски, оба запинались, лепили постыдные ошибки, но человек он приятный и очень интересный (14 июня 1917).
В одном нельзя сомневаться — Гумилев старался сделать любой перевод как можно лучше. Одним из образцов акмеизма он назвал Теофиля Готье: В поэзии меня прельщает преодоление труднейших форм. Недаром я взялся переводить Готье, которого называли укротителем слов. Свое эссе об авторе «Эмалей и камей» Гумилев завершал такими словами: В литературе нет других законов, кроме закона радостного и плодотворного усилия. Гумилев писал о формальной безупречности изобразительного ряда в сочинениях французского поэта:
Вперёд, всегда вперёд, и вдруг заметит глаз
Немного зелени, обрадовавшей нас:
Лес кипарисовый и плиты снега чище.
Чтоб отдохнули мы среди пустынь времён,
Господь оазисом нам указал кладбище:
Больные путники, вкусить спешите сон.
Гумилев ценил парнасцев и для «Всемирной литературы» переводил Эредиа и Леконта де Лиля. Вообще, критика с самого начала подчеркивала французские черты поэзии Гумилева; И. Анненский прямо писал в рецензии на «Романтические цветы»: Русская книжка, написанная и изданная в Париже, навеянная Парижем. В настоящем сборнике впервые напечатан перевод стихотворения Леконта де Лиля «Фидиле»:
В молчаньи заросли. В кустах олень несмелый
Перед ревущей стаей псов
Не прыгает. Ушла Диана вглубь лесов
Убийственные чистить стрелы.
Дитя прелестное! Спи мирно на лугу,
Похожая на нимф садовых.
Я отгоню пчелу от губ твоих медовых,
Босые ноги сберегу.
И жидким золотом к священным очертаньям
Твоих полуоткрытых плеч
Пусть кудри лёгкие твои спешат прилечь,
Взволнованы твоим дыханьем.
Помимо Готье, столпами акмеизма Гумилев провозгласил Шекспира, Рабле и Вийона.
В своей переводческой деятельности он не прошел и мимо их творчества. Правда, о переводах Рабле ничего не известно, зато в 1919-1920 гг. Гумилев сделал сжатое переложение первой части «Генриха IV-го» для Секции исторических картин при «Всемирной литературе». Заглавным героем он посчитал самого земного и матерьяльного из великих шекспировских персонажей — Фальстафа. А в 1913 году Гумилев перевел фрагмент «Большого завещания» Вийона и одну из самых знаменитых его баллад — «О дамах былых времён». Позже Ахматова находила следы этой баллады в стихотворении «Священные плывут и тают ночи»: перечисление женских имён и смерть, только собственная, а не третьих лиц.
Гумилев ратовал, отчасти в пику символистам, за народность поэзии. И сам он с готовностью писал русские переложения абиссинских, скандинавских, английских (о Робин Гуде) и французских народных песен, да, в целом, и китайские стихи «Фарфорового павильона» и «Гильгамеша» Гумилев относил к народной поэзии. Герои народных песен обладали разнообразными талантами, что не могло не вызывать интереса поэта-правителя:
Один только Гагбард-конунг
Иголку во рту держал
И самую глубокую чашу
Он всю до дна выпивал.
Потом вынимал свой ножик
И делал то, что знал,
Бегущих оленей и ланей
На палке он вырезал.
Сущностью подлинного романтизма Гумилев считал иронию, и в германской поэзии его фаворитом был ироничный и злободневный Гейне. Гумилев перевел три его большие поэмы — «Атту Троль», «Вицли-Пуцли» и «Бимини» для «Всемирной литературы». «Атту Троль» редактировал Блок, благодаря составителям, читатели настоящего издания могут проследить за стилистической дискуссией двух выдающихся поэтов. Вот, к примеру, начало 9-й главы по версии Гумилева:
Как царевич мавританский
Фрейлиграта, издеваясь,
Показал средь черных губ
Свой язык багрово-красный,
Так восходит средь ночного
Неба месяц. И шумит
Водопад неугомонный,
Опечаленный ночами.
Блок поправил таким образом:
Как язык багрово-красный,
Что из черных губ с издёвкой
Показал у Фрейлиграта
Мавританский черный князь, —
Так из темных туч выходит
Месяц. Вдалеке бушует
Водопад, всегда бессонный
И тоскующий в ночи.
Об отношениях двух поэтов к художественному переводу сохранился в памяти Шилейко чудесный анекдот: «Отчего Вы не переводите, Ал.Ал.?» — А что мне переводить? — «Вот наконец Дант — Вы его так любите». — Дант переводами не занимался. Он писал «Комедию». — «Да ведь и мы с Вами переводами не занимаемся, а «Комедии» не написали».
В последние годы Гумилев обратился к французским символистам. Ахматова усматривала сильное и глубинное влияние Бодлера на поэтику «Огненного столпа». Она говорила Лукницкому: То, что даётся у Бодлера как сравнение, образ — у Гумилева выплывает часто как данность. Кроме Бодлера, он переводил Мореаса, к сожалению, многие переводы пока считаются утраченными. Зато можно — и нужно — читать уцелевшие:
Но этот зов твой — лишь коварство
И вот уж наступает царство
Вождя под гребнем петуха
И прячешь ты — мы знаем сами —
Под бархатом и кружевами
Всё безобразие греха.
Ах! Пусть придет иной Мессия
Разбить оковы вековые
И семя растоптать Жены
Ценой иного искупленья
Сносить желанье размноженья,
Которым мы теперь больны.
(Жан Мореас, Homo, Fuge)
Нередко Гумилев превращал перевод в своеобразный испытательный полигон для своей собственной поэзии: Я хочу написать стихи о Гильгамеше. Только сейчас имя это не будет звучать в стихах. Надо сначала, чтоб это имя вошло в сознание. Надо раньше сделать перевод (воспоминания Шилейко). И после «Фарфорового павильона» Гумилев начинал сочинять китайскую поэму «Два сна», а опубликовав перевод «Гильгамеша», приступил к созданию «Поэмы Начала», в которой Вяч. Вс. Иванов видел элементы космогонии народов Междуречья.
Ни оригинальное творчество, ни поэтические переводы не могут заслонить фигуру их создателя. В неоконченном мемуаре о Гумилеве весьма красноречиво написал Н. Пунин: Я любил его молодость. Дикое дерзкое мужество его первых стихов. Париж, цилиндр, дурная слава, поэзия-ремесло — вспоминайте об этом, как хотите, только не забудьте того, что Гумилев, который теперь так академически чист, так ясен, когда-то пугал — и не одних царскоселов — жирафами, попугаями, дьяволами, озером Чад, странными рифмами, дикими мыслями, темной и густой кровью своих стихов.
Но Гумилев был слишком сильным и самостоятельным человеком, и точнее всех о себе сказал он сам. Правда, написал он эти слова о Теофиле Готье, и данный факт лучше всего иллюстрирует важность переводов Гумилева как части его наследия:
Он последний верил, что литература есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя гражданином этого мира. Он не подразделял его на высшие и низшие касты, на враждебные друг другу течения. Он уверенной рукой отовсюду брал, что ему было надо, и всё становилось чистым золотом в этой руке.
|
|
Последние 16 лет интерес Елены Погорельской сфокусирован на творчестве Исаака Бабеля. Свидетельством тому — книги. Совсем недавняя, «Исаак Бабель. Жизнеописание», вышла в этом году. О ней, а также и собственно о личности и творчестве писателя с Еленой ПОГОРЕЛЬСКОЙ побеседовала Елена КОНСТАНТИНОВА.
— Елена, чуть ли не одновременно вы завершили два крупных проекта в Москве и Петербурге, став составителем главной книги Исаака Бабеля «Конармия» в серии «Литературные памятники» («Наука», 2018) и одним из авторов биографии писателя — «Исаак Бабель. Жизнеописание» («Вита Нова», 2020). Как долго шла ваша работа?
— Над «Жизнеописанием» — почти 10 лет, над «Конармией» — ровно пять. И то и другое, конечно, далось непросто.
— Почему вы решили писать о Бабеле в соавторстве? И именно со Стивом Левиным, притом что вас разделяют границы России и Израиля?
— Я бы поменяла вопросы местами, точнее, их бы объединила: почему я решила писать биографию в соавторстве со Стивом Левиным? Поначалу работала одна. А в 2011 году прочла отличную книгу Левина «С еврейской точки зрения» (Иерусалим: «Филобиблон», 2010), где есть большой раздел о Бабеле. В том же году мы познакомились со Стивом, быстро нашли общий язык, подружились. И вскоре я предложила ему сотрудничество: у него давний опыт изучения творчества Бабеля, которым он занимается еще со студенческих лет. Кроме того, Левин — автор третьей в СССР (после Израиля Смирина и Сергея Поварцова) кандидатской диссертации, посвященной Бабелю. А что мы живем в разных странах, так это в наше время не проблема.
— По сути, писательство — глубоко личный, сокровенный процесс. Вас и это не останавливало?
— Мне кажется, я в какой-то мере уже ответила на данный вопрос. Но дело не только в самом процессе писания. У нас была возможность обсуждать написанное, дополнять друг друга. Всегда полезен свежий взгляд на твой собственный текст, к тому же взгляд человека, который глубоко в теме.
— Как вы разделили «обязанности»?
— Это происходило как-то само собой, ведь у каждого свои любимые темы. Для Стива, например, все, что связано с Саратовом, откуда он родом, и с продовольственной экспедицией в Самарскую губернию 1918 года, в которой участвовал Бабель, коллективизация, политический контекст. Для меня, скажем, детские годы, отношения с Маяковским, переводы из Мопассана, поездки во Францию. Но я была координатором и осуществляла общее редактирование.
— Кому принадлежит идея посвятить книгу памяти жены Бабеля — Антонины Николаевны Пирожковой?
— Эта, без ложной скромности, счастливая идея принадлежала мне.
— В отличие, допустим, от ныне покойного Сергея Поварцова, автора хроники последних дней писателя «Причина смерти — расстрел» («Терра», 1996), которого вы упоминали, или Стива Левина вы не были знакомы с Антониной Николаевной. Это минус или, как ни странно, плюс?
— Очень жалею о том, что мне не посчастливилось общаться с Антониной Николаевной и получить бесценные сведения о Бабеле из первых рук. Не говоря уже о том, что она сама была незаурядной личностью. И поэтому я с особой радостью прочитала в рецензии Елены Елиной и Александры Раевой, напечатанной в апреле в журнале «Волга», и в недавнем интервью Андрея Малаева-Бабеля, внука Бабеля и Пирожковой, что Антонина Николаевна воспринимается как второй главный герой «Жизнеописания».
— И внук, и дочь Бабеля ныне живут в Штатах. Какие отношения сложились у вас с ними?
— Прекрасные, о каких можно только мечтать. Мне повезло и с таким писателем, как Исаак Бабель, и с его наследниками. Они продолжают традицию Антонины Николаевны, которая принимала у себя многих исследователей и помогала в их работе. Лидия Исааковна и Андрей, например, приезжали в Москву на конференцию, посвященную 120-летию Бабеля. Андрей выступил с интересным докладом, в котором неожиданно представил творчество деда в контексте традиции великих актеров-трагиков XIX — начала ХХ века. А в 2016 году, будучи у них дома в США, я смогла сверить с оригиналом конармейский дневник Бабеля для «Литературных памятников», поработать с другими рукописями и документами из семейного архива. Они же предоставили уникальные материалы для иллюстрирования «Жизнеописания».
— Испытывали ли вы давление с их стороны?
— Ни в коей мере, только помощь и поддержку.
— Назовите, пожалуйста, самые главные источники, на которые вы опирались?
— В первую очередь на произведения самого Бабеля. Даже условно автобиографические тексты, где преобладает вымысел, заставляли искать истину: а как было на самом деле? Его письма, особенно письма родным, большая часть которых пока не опубликована. Многие уникальные документы из российских и зарубежных архивов. Для биографии последних лет писателя — уже прозвучавшая книга Поварцова, документальная повесть «Прошу меня выслушать» Виталия Шенталинского и, безусловно, замечательная книга «Я пытаюсь восстановить черты: О Бабеле — и не только о нем» Пирожковой (2013).
— Воскрешение каких страниц в биографии потребовало наибольших душевных усилий?
— Ответ очевидный — последние месяцы перед арестом, арест, тюрьма, приговор, расстрел. И еще те страницы эпилога, где говорится о хождении вдовы писателя по мукам, ее страстной вере в то, что муж жив и вот-вот вернется домой, ее нежелании верить в смерть Бабеля. Объяснять почему, думаю, не надо.
— Какие подводные камни ждали вас уже на этапе написания книги, что предстало неожиданно или по-новому высветило известные факты?
— Что касается подводных камней, действительно есть какие-то периоды биографии, о которых очень сложно написать что-то определенное. Таков, к примеру, загадочный 1919 год. Да и отчасти 1920-й: мы не располагаем пока точными данными о том, когда Бабель поступил в Первую конную армию и когда оттуда выбыл. И неожиданности случались. Например, не было известно о существовании сестры-погодка Бабеля Иды, родившейся в Николаеве 1 декабря 1895 года. Девочка прожила всего шесть месяцев, но благодаря установлению этого факта мы теперь знаем, что Бабель с родителями переехал из Одессы в Николаев не позднее даты ее рождения. В Российском государственном военном архиве были обнаружены два очень важных документа — справка о снятии с довольствия в столовой Штаба армии Бабеля (Лютова) с 24 июня 1920 года, свидетельствующая о том, что в Конармии была известна настоящая фамилия писателя, и косвенно подтверждающая дату его перехода в 6-ю кавалерийскую дивизию; и копия не датированной инструкции по ведению журнала военных действий, заверенная К. Лютовым. О ведении этого журнала есть несколько лаконичных записей в конармейском дневнике, а соотнесение этих записей с инструкцией позволяет отнести начало ведения подобного журнала в Первой конной к середине июля 1920 года.
— Часто ли вы при той или иной находке восклицали: «Мистика!»?
— Не помню, чтоб восклицала именно так, но нечто подобное случалось нередко. Вот пример, который меня до сих пор не отпускает. Опубликовано только одно письмо Бабеля, где говорится о смерти Маяковского, — родным от 27 апреля 1930 года. Я раньше думала, что в день смерти поэта Бабеля не было в Москве. Но оказалось, что есть еще письма на эту тему от 16 и 21 апреля, и из них выясняется, что Бабель 14 и 15 числа дежурил у гроба Маяковского. Он был настолько потрясен и подавлен гибелью поэта, что 21 апреля писал родным в Бельгию: «Вся жизнь как-то сломалась ни работать, ни радоваться весне нельзя было».
— Позвольте неудобный во всех отношениях вопрос. Возможно, вы и сами сталкивались с таким суждением о Бабеле: «Писатель бесспорно гениальный, а человеком был так себе»?
— Да, к сожалению, сталкивалась… Однако — с не подкрепленным хоть сколько-нибудь серьезными аргументами. Мне кажется, что это больше говорит о тех, кто высказывается подобным образом. Более обаятельного человека, обладавшего к тому же искрометным чувством юмора, трудно себе представить. Недаром красивые и умные женщины готовы были идти за ним в огонь и в воду. Современники вспоминают о Бабеле как о человеке необычайной душевной щедрости. Антонина Николаевна писала о том, что доброта его «граничила с катастрофой»; он хотел иметь какие-то вещи только для того, чтобы их раздавать. А людей без недостатков не бывает. К тому же нельзя подходить к такому большому художнику с обывательскими мерками. И как можно нам, не жившим в то страшное время, судить тех, кто его пережил или не пережил и погиб, как Бабель.
— Тогда спрошу иначе. Есть ли у Бабеля поступки, о которых вам хотелось бы промолчать?
— Есть. То, что он скрывал вторую семью — Антонину Николаевну и дочь Лидию — от родных. Хотя понять и объяснить тоже могу: он щадил чувства матери и сестры, которые были очень привязаны к первой жене, Евгении Борисовне, и старшей дочери Бабеля Наталье, жившим в Париже. Да, вероятно, и самой Евгении Борисовне не хотел наносить удар.
— Выдавая вымысел за действительность, Бабель мастерски вводит читателя в заблуждение, в том числе в своих якобы автобиографических рассказах. То есть полагаться на их надежность в смысле достоверности не стоит?
— Не только не стоит, но и нельзя ни в коем случае. Всякий раз надо разбираться, где факт, а где вымысел. Вместе с тем надо помнить, что характерное для Бабеля искажение фактов, дат и топографии всегда подчинено художественным целям.
— Вообще граница между реальностью и фантазией видна только вооруженному взгляду литературоведа? Произведения Бабеля «закрыты» для обычного читателя?
— Мне как обладателю этого самого «вооруженного взгляда» судить трудно. Вероятно, Бабеля можно читать по-разному, и я не стала бы говорить о его закрытости для обычного читателя. Он ведь писал для читателей, а не для литературоведов. И прием искажения реальности был рассчитан на них же. На одном из выступлений Бабель сказал: «…если я выбрал себе читателя, то тут я думаю о том, как мне обмануть, оглушить этого умного читателя» (28 сентября 1937 года). В конце концов, для того и существуем мы, комментаторы произведений Бабеля, чтобы помочь читателю, если он того захочет, во всем разобраться.
Елена Иосифовна Погорельская — литературовед. Родилась и живет в Москве. Работала в Государственном музее В.В. Маяковского и Государственном литературном музее. В настоящее время — в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Автор книги «Исаак Бабель. Жизнеописание» (в соавторстве со Стивом Левиным), а также многих статей по русской литературе ХХ века. Составитель книг «Бабель И. Письма другу: Из архива И.Л. Лившица» (2007), «Описание документальных материалов В.В. Маяковского, находящихся в государственных хранилищах. Вып. 3» (2013), «Бабель И. Рассказы» (2014), «Бабель И. Улица Данте» (2015), «Бабель И. Конармия» (2018). Инициатор и организатор Международной научной конференции «Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век» (2014), ответственный редактор одноименного сборника (2016). Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2017).
|
|
«Козлиная песнь» Константина Вагинова (1899-1934), выпущенная в прошлом году издательством «Вита Нова», но добравшаяся до полки в нашей библиотеке только в этом, 2020 (шифр хранения: 2020-7/1607) — переиздание знаменитого романа ученика Николая Гумилёва, позднее обериута («крайне правый фланг нашего объединения» — так его охарактеризовал автор манифеста ОБЕРИУ Николай Заболоцкий) —Константина Константиновича Вагинова. Причём переиздание (считая и ... увы ... увы ... отсутствующий в Публичной библиотеке нью-йоркский репринт книжки 1928, выпущенный в 1978 году) одиннадцатое. «Книги имеют свою судьбу...». Роман, появившийся в 1928, обруганный в печати и советской, и эмигрантской в пух и в прах, не раскупленный читателями, забытый так прочно, что первое его переиздание в России в 1989 году вышло в серии «Забытая книга», ныне переиздаётся чуть ли не каждый год. Я имел случай убедиться в высокой (воистину высокой) популярности этой книжки. Стою в вагоне метро, не без интереса перечитываю «Козлиную песнь», некий молодой человек довольно бесцеремонно приглядывается к тому, что же я такое читаю. Я показываю ему обложку. «О! — в восторге вскрикивает молодой человек и показывает большой палец вверх. — О! Вагинов! О! Круто!»
Кстати, не могу сказать, что я — великий поклонник этой книги. Она — мрачная. Иронический её тон и смешные, нелепые персонажи только подчёркивают её неизбывный трагизм. Вагинов очень точно назвал свой первый роман. «Козлиная песнь» по-гречески — трагедия. Это — трагедия. Современная, та, о которой говорил Бродский: «Это в старой трагедии погибал главный герой. В современной трагедии гибнет хор...». Наверное, поэтому мне так трудно читать эту книжку, трагедию изо всех сил прикидывающуюся комедией. Опять же заглавие. Это же очень смешно: поющие козлы, верно? Любой человек, говорящий и привыкший слышать по-русски, невольно усмехнется, когда прочтёт такое заглавие. А означает оно: трагедия. Звучит смешно, а означает нечто очень печальное.
В общем, «Козлиную песнь» Вагинова надо прочесть, даже если эта книжка вам не понравится. Достоевский тоже не всем нравится, а прочесть его романы и новеллы надо. Теперь о том, почему надо прочесть вот это издание/переиздание романа.
Во-первых, если и не прочесть, то посмотреть. Книга проиллюстрирована замечательной питерской художницей, Екатериной Посецельской. Она — один из лучших современных городских пейзажистов. Её портреты (именно, портреты) Петербурга и Парижа — изумительны. Это — третий опыт Екатерины Посецельской в масштабном иллюстрировании книги (Первый «Книга пророка Даниила», второй «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой) и он не уступает предыдущим. Екатерина Посецельская попала в нерв повествования о судьбе пореволюционной интеллигенции, которой предстоит или погибнуть, или кардинальнейшим образом измениться, изменить себя, изменить себе, чтобы предоставить новому обществу и его власти спецов «без всякой тени вредительства» (М. Булгаков). Она адекватно передала особенность этой трагедии, о которой друг Вагинова, Михаил Бахтин говорил так: «... совершенно своеобразная (...) в литературе трагедия, трагедия — вот можно это так назвать — трагедия смешного человека. Трагедия чудака, но только не в стиле Достоевского, а в ином стиле несколько (...) Я бы сказал, Вагинов, в этом отношении — совершенно уникальная фигура в мировой литературе».
Во-вторых, комментарии Дмитрия Бреслера (постоянного, кстати, читателя нашей библиотеки), Алексея Дмитренко, Натальи Фаликовой. Откомментировано чуть не каждое предложение этого романа. Все реалии времени конца НЭПа, все упомянутые Вагиновым реалии других времён и культур объяснены и растолкованы. Всем персонажам романа найдены прототипы, ибо «Козлиная песнь» — роман э клэ, роман с ключом. В гротесковом, шаржированном виде перед читателем предстаёт вся компания Вагинова, говоря современным языком: вся его тусовка. Причём небольшой комментарий становится целой короткой, напряжённой новеллой. Например, комментарий к появившемуся и исчезнувшему на страницах романа «Сергею К.»: «Этот персонаж (...) имеет реального одноимённого прототипа: речь идёт о друге юности Вагинова Сергее Крейтоне. Он упоминается в стихотворении Вагинова: «Нет, не люблю закат, пойдёмте дальше, дальше...» А. И. Вагинова (вдова писателя — Н. Е.) рассказывала о Крейтоне следующее: «А рядом (с домом 25 по Литейному проспекту, принадлежавшему до революции матери Вагинова — Н. Е.) жил английский архитектор — кажется, королевский — Крейтон. И у него был сын Сергей Крейтон. Он был большой друг К. К. (Вагинова — Н. Е.) К. К. Превозносил его доброту, говорил, что он очень красив, очень мягок. А потом он пропал. И К. К. долго его разыскивал, но нигде не мог найти. Вот у К. К. Есть стихи: «В казарме умирает человек...», это он думал о Сергее Крейтоне, что тот где-то служит. Потом они случайно встретились, и, оказалось, что Сергей, действительно, служит простым матросом на каком-то корабле, — по-видимому, он так спасался от возможных репрессий. И К. К. спросил: «Почему ты меня избегаешь?» А тот ответил: «Ну, я простой матрос, а ты стал писателем. Наши дороги разошлись» (А. И. Вагинова «Ненаписанные воспоминания»)». Кроме того, комментариям предпослана внушительная статья об истории «Козлиной песни», о её издании, откликах в печати, как правило, ругательных, о работе Вагинова над своим первым романом.
В-третьих, в книге помещены две замечательные статьи. Одна — Николая Николаева «Тептёлкин и другие в романе Константина Вагинова «Козлиная песнь»». Статья несколько забавная (другого слова, к сожалению, не подберу) и — на редкость информативная. Тептёлкин — главный герой «Козлиной песни», чей прототип — филолог Лев Пумпянский — был настолько узнаваем, что Пумпянский просто поссорился с Вагиновым. Николай Николаев изо всех сил старается доказать, что роман Вагинова не просто роман э клэ и что Тептёлкин не так, чтобы уж совсем Пумпянский. Но всякий роман с ключом не просто изображение своих знакомых под прозрачными псевдонимами. А самое забавное, что, доказывая: Тептёлкин не так, чтобы совсем уж Пумпянский, Николаев воочию показывает — Вагинов едва ли не фотографически-увеличительно воспроизвел в своём романе все особенности быта и поведения своего друга, вплоть до цвета халата, в котором тот встречал своих друзей. Другая статья — Игоря Хадикова и Алексея Дмитренко «Вдоль линий Вагенгейма, или Петергофский травелог Вагинова: Заметки на полях «Козлиной песни»». Поясню: Вагенгейм — фамилия писателя. Вагинов — его русифицированный псевдоним. Петергоф — одно из мест действия романа. В статье тщательнейшим образом исследован послереволюционый Петергоф, времён его превращения в парк культуры и отдыха. Доказано и показано, что Вагинов в своём гротесковом романе с фотографической точностью описал Петергоф своего времени. Вплоть до ... пивной лавки: ««Пока Тептёлкин в башне подготавливал ученика трудовой школы в вуз, неизвестный поэт и Костя Ротиков сходили за пивом, все поочередно пили из оказавшегося у кого-то стаканчика, обмахивались платочками, били и отгоняли комаров» — Была ли пивная лавка в начале Знаменской улицы? Была - лавка Единого потребительского общества (ЕПО), и в списке абонентов Петергофской телефонной станции на 1925 год можно даже разыскать её номер: 88. Жаль, что нельзя позвонить».
Наконец, под занавес, самое важное, в-четвёртых, это — новый текст «Козлиной песни», никогда прежде не публиковавшийся. После книжного издания 1928 года Вагинов продолжил работу над своим романом, написал два новых предисловия, вписал новые главы, дописал три новых концовки, кое-что из текста он вычеркнул. Причём делал он это без расчёта на новую публикацию, хотя и подал заявку на переиздание. В предварении к комментариям убедительно доказано, что эта заявка была своеобразным, житейским, что ли, обоснованием продолжающейся работы над не отпускающим автора романом. Ни о каком переиздании романа, который мало что был изруган в пух и прах рецензентами, но и с треском провалился в продаже и речи быть не могло. Вагинов просто не мог расстаться с этим текстом. По таковой причине публикаторы пошли на парадоксальнейшее решение, они вставили всё дописанное Вагиновым в роман после книжной публикации, выделив всё это другим шрифтом, а всё вычеркнутое оставили ... вычеркнутым. Читатель попадает в мастерскую писателя. Видит, как писатель работает, как делает свой текст живым, а это очень интересно. И плодотворно...
Вагинов К. К. Козлиная песнь: Роман. Подготовка текста, коммент. Д. М. Бреслера, А. Л. Дмитренко, Н. И. Фаликовой. Статья Н. И. Николаева. Статья И. А. Хадикова и А. Л. Дмитренко. Ил. Е. Г. Посецельской. - СПб., Вита Нова, 2019 - 424 с.
|
|
Известная петербургская художница Алла Джигирей, одна из основателей творческого объединения «Дети Архипа Куинджи», во время самоизоляции создала уникальную стодневную книгу художника. Каждый день она фиксировала все события, происходящие в это непростое время — от выросшего на подоконнике лука до поездок в Комарово. Ее историю первой рассказала Галина Артёменко из издания "MR7"/
«Я купила блокнот, мне его переплели в издательстве «Вита Нова», блокнот я берегла для Флоренции — думала, что мы туда поедем и я буду делать наброски. Или я его поберегу для материалов к Достоевскому, но как 28 марта объявили карантин, я поняла, что пришел черед этого блокнота», — пишет она.
Алла вместе с мужем Борисом Забирохиным во время самоизоляции поселились на Обводном, в мастерской, боясь заразить детей и внуков, пожилую маму Аллы. С ними также жили собаки — Флора и Клякса, ставшие персонажами книги. Настоящей отдушиной для семьи стали поездки в Комарово, где за три дня до наступления карантина они успели снять веранду. «Топили печь, пока было холодно. Читали. Гуляли по окрестностям», — отмечает художница. Но главным персонажем книги становится фигурка младенца, младшей внучки художницы, которая станет символом любви и тепла.
По словам петербурженки, фиксация быта становилась фиксацией бытия. «Вдруг каждое маленькое действие, самое простое — душ принять, чашку чая налить, покормить собачку — оказывается очень важным, важнее, чем в обычное время, — говорит Алла. — Важнее потому, что на фоне этой чумы ты начинаешь смотреть по-другому даже на какие-то маленькие предметы вокруг». В своем дневнике Алла фиксировала любые мелочи: выросший на подоконнике лук, выход в магазин в новом облике — в строительных защитных очках и платке на лице вместо маски, стрижку дома — парикмахерские ведь закрыты.
На 31-й день самоизоляции в дневнике появляется пометка: «Уже озверели». «Очень хочется просто внешних впечатлений, даже простых», — пишет Алла. И фиксирует их. Художница рассказывает и о внешних событиях в городе, которые ее волновали: «Врачи умирают в Боткинской. В Ленэкспо открывается госпиталь. 27 апреля появляется стена памяти погибших медиков на Малой Садовой улице. И в городе практически каждый теперь знает, что такое КТ, сатурация, пульсоксиметр, обсерватор, чистая и красная зоны.» Она также пишет о том, что парадную моют хлоркой, но только до второго этажа, свою площадку Алла моет сама.
«Пятое мая, 39-й день чумы». «На 49-й день умерли художник Виктор Пермяков и скульптор Роман Шустров». «8 мая. 220 медиков в России умерли». «20 мая. Пришли к соседям медики (рисунок изображает медиков в противочумных костюмах. — Прим. авт.), кричали нам „мойте руки“, „все врут, все врут!“ И мы сразу убежали в Комарово и затопили печку». «День Великого Сидения 67-й».
На последней странице дневника, оформленной как театральная программка, указаны действующие лица этой документальной пьесы, а в центре изображена сама художница на фоне Петербурга.
|
|
Петербурженка Алла Джигирей сто дней вела дневник самоизоляции, дневник художника — каждый день рисовала, сопровождая рисунок коротким текстом.
Алла Джигирей вместе с мужем Борисом Забирохиным — известные российские художники, создатели творческого объединения «Дети Архипа Куинджи», их работы хранятся в музеях и частных коллекциях России и мира. Так появилась уникальная книга художника в единственном экземпляре, созданная Аллой во время эпидемии:
— Я купила блокнот, мне его переплели в издательстве «Вита Нова», блокнот я берегла для Флоренции — думала, что мы туда поедем и я буду делать наброски. Или я его поберегу для материалов к Достоевскому, но как 28 марта объявили карантин, я поняла, что пришел черед этого блокнота.
Десять дней назад в семье родилась младшая внучка. Фигурка младенца будет возникать на страницах дневника и станет символом любви и тепла.
Алла с Борисом на самоизоляции поселились на Обводном, в мастерской, боялись заразить детей и внуков, пожилую маму Аллы. С художниками жили собаки — Флора и Клякса. Они и стали персонажами книги.
Семья успела за три дня до карантина снять веранду в Комарово. И поездки туда стали отдушиной, приключением. Топили печь, пока было холодно. Читали. Гуляли по окрестностям.
Чем отличалась во время самоизоляции жизнь семьи — двух художников, которые и так все время, в основном, проводят в мастерской, выходя или на выставки и в музеи, или к друзьям? Фиксация быта становилась фиксацией бытия.
«Вдруг каждое маленькое действие, самое простое — душ принять, чашку чая налить, покормить собачку — оказывается очень важным, важнее, чем в обычное время, — говорит Алла. — Важнее потому, что на фоне этой чумы ты начинаешь смотреть по-другому даже на какие-то маленькие предметы вокруг».
Фиксировали все — выросший на подоконнике лук, выход в магазин в новом облике — в строительных защитных очках и платке на лице вместо маски. Вот надо постричься все обросли, а парикмахерские закрыты. Ну что ж — стрижем дома…
«Каждый день было разное настроение, вот один день, когда название месяца я написала как мартобря, когда навалилась усталость».
«Уже озверели» — пометка на рисунке, где сказано, что день самоизоляции пошел 31-й. «Очень хочется просто внешних впечатлений, даже простых», — пишет Алла. И фиксирует их.
13 апреля супруги мастерскую на Обводном впервые покинули не для магазина или прогулки с собаками — надо было выйти в печатную мастерскую, потому что Алла и Борис считали своим долгом поддержать книжников России. Журналист Зинаида Курбатова снимала сюжет о том, что книга — это как хлеб или мыло — предмет первой необходимости, что книжников — издателей, владельцев книжных магазинов — надо поддержать.
События внутри самоизолировавшейся семьи и события замершего опустевшего, несколько оглушенного, притихшего города, где почти все больницы стали ковидными, где возникли невиданные доселе очереди из скорых — все эти события отражались на страницах стодневного повествования Аллы Джигирей.
Вот она пишет: «Врачи умирают в Боткинской. В Ленэкспо открывается госпиталь. 27 апреля появляется стена памяти погибших медиков на Малой Садовой улице. И в городе практически каждый теперь знает, что такое КТ, сатурация, пульсоксиметр, обсерватор, чистая и красная зоны. Алла фиксирует этот ковидный глоссарий. Она пишет о том, что парадную моют хлоркой, но только до второго этажа, свою площадку Алла моет сама.
«Пятое мая, 39-й день чумы». «На 49-й день умерли художник Виктор Пермяков и скульптор Роман Шустров». «8 мая. 220 медиков в России умерли». «20 мая. Пришли к соседям медики (рисунок изображает медиков в противочумных костюмах. — Прим. авт.), кричали нам „мойте руки“, „все врут, все врут!“ И мы сразу убежали в Комарово и затопили печку». «День Великого Сидения 67-й».
Алла говорит, что страх приходил тогда, когда узнавали о смертях врачей, когда не хватало информации: «Лучше бы каждый день выходило бы должностное лицо и говорило бы, какая у нас ситуация, не хватало информации, нормальной и честной, поэтому все стали доморощенными вирусологами и эпидемиологами».
«Ребенок спросил: „Когда я умру?“ — „Не умрешь никогда“. День 92-й, 26 июня, плюс тридцать и очень жарко…».
Сотый день и потом — последняя страница, которую Алла оформляет как театральную программку, указывая действующих лиц этой документальной пьесы, и рисует себя на фоне города.
Будет ли книга напечатана? Алла мечтает об этом. И еще — о выставке, возможно, прямо в Шереметевском саду, на открытом воздухе, у Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме — лучше места, наверное, трудно найти.
|
|